Г.П. АНСИМОВ.
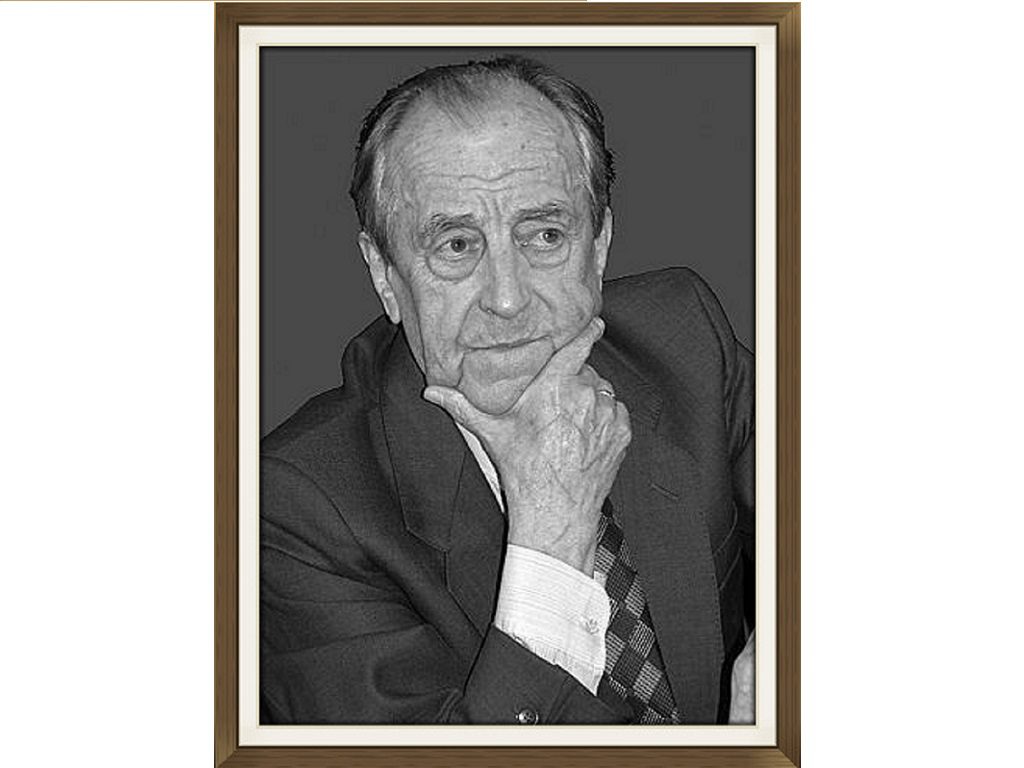
I. АНСАМБЛЬ
II. АКАДЕМИЯ
III. В ЛАДОЖСКУЮ
IV. СТАНИЦА ЛАДОЖСКАЯ
ИЗГНАННИКИ
БАБУШКА ЕВФРОСИНИЯ
V. ПОРУГАННЫЕ СВЯТЫНИ
VI. СЛЕПЫЕ
СРЕДИ ВЁДЕР И КЕРОСИНОК
VII. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
VIII. ЧЕРКИЗОВО
IX. ПЕРВЫЕ БРЮКИ
X. СЛОВО
XI. БЛИНЫ
XII. ТРОЙКА
XIII. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
XIV. ПОСТ
XV. КУЛИЧИ
XVI. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
XVII.СТЕЖКИ И ГОДЫ
XVIII. КРЕСТ
XIX.ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ.
I. АНСАМБЛЬ
У отца были именины. День святого Павла Послушливого. По православному обычаю новорожденному дается имя святого, близкое ко дню рождения. Около этого православного праздника отцу исполнилось сорок. Хотя и была круглая дата, праздновался день Ангела. На именинный обед ждали гостей-родственников. Обещал быть к обеду и преподаватель отца в Казанской духовной академии архиепископ Евсевий. Несмотря на то, что он был старше отца, они стремились встречаться, и это был повод.
Владыка Евсевий — популярный проповедник, музыкант, говорил и переписывался на латыни, французском, итальянском языках, преподавал философию и богословие.
У нас дома готовились к этой встрече долго. Евсевий — монах и не ест мясного. Мама изобретала блюда, которыми можно было бы ему угодить. Уж не помню меню этого обеда, помню только, что на сладкое мама сделала мое любимое блюдо, которое нам давалось раз в год, в Страстную субботу, — кофе, заправленный молоком, выжатым из толченых грецких орехов. Помню весь этот день, как ждали, как «приехал!», как мы все выстроились в комнате в ожидании, пока он разденется, причешется, войдет в столовую. Войдя, он долго и истово молился на наш киот, а мы все стояли и опять ждали. Помолившись, он обернулся в нашу сторону, и мы начали подходить под благословение.
Как я наслаждался своей привилегией мужчины (мне было девять лет), когда, в отличие от женщин, которые могли только приложиться к его руке, я совершил на глазах у всех приветствие мужчины. Сложив ладони крестом; я дождался, когда он меня благословит, и, почувствовав его руку на своих ладонях, поцеловал ее, а затем, встав на цыпочки, поцеловал мягкие волосы специально подставленной мне щеки, и опять — так полагается — руку.
Обед шел мерно. Евсевий много рассказывал. Мы слушали. Отец, желая сделать гостю сюрприз, разучил вместе с детьми, с моей сестрой и со мной, молитву на три голоса. Я тогда впервые почувствовал, как мой дискант вливается в ансамбль и как, приспособившись там, среди двух соседних голосов, он, найдя своё удобное и нужное место, начинает осваиваться. За это чувство ансамбля, за эту музыкальную чуткость, которой я научился у отца, за качество, которое сопутствовало мне всю жизнь, я благодарен отцу, несмотря на то, что спевки, подстройки, чистота интервала — все это на занятиях с отцом было каторгой.
Отец предложил гостям послушать семейный ансамбль. Я принес ноты, отец вынул камертон, и, несколько раз задав тон, мягко дал вступление своей рукой, с всегда очень коротко обрезанными ногтями. Дрожа от опасности сбиться и провалить такую красивую затею, боясь подвести отца, сестру, да и всю семью, а, главное, боясь, что из-за волнения я не смогу опять испытать то щекочущее и радостное чувство, когда моему голосу удобно с двумя разными голосами по бокам, я запел. И сразу же, услышав присоединившиеся ко мне голоса отца и сестры, успокоился и уже мог, к моей радости и гордости, регулировать силу голоса, чувствуя нюансы, даваемые отцом, и с легкостью подстраиваясь:
Посетил ны есть свыше Спас наш!
Восток востоков!
Не помню, как слушал это владыка. Не помню ничего, что не относилось к пению. Помню только радостное чувство слияния голосов и мое счастливое сознание, что мой голос — часть чего-то стройного, красивого, прекрасно организованного. Вдруг я почувствовал что-то тревожное. Это бросилась в голову мысль, что молитва подходит к концу и пение заканчивается. Мы запели последнюю фразу:
Ибо от Девы родися Христос.
Как же я был обрадован, когда вспомнил, что у автора слово «родися» повторяется. Конечно, этого мало, но все-таки, хоть это. С какой тщательностью, с каким мучительно сдерживаемым убывающим наслаждением я выводил последние слоги и ноты. Как, держа самую последнюю ноту, я недобро смотрел на отцовскую руку, одно движение которой должно было прекратить моё счастье. Как я не любил в этот миг его коротко остриженные ногти, его мягкие, уж очень мягкие, чуть суховатые руки.
Кончилось.
Я сидел, опустив глаза, и не особенно прислушивался к похвалам. Мне было жалко только что потерянного счастья. Я старался сохранить в себе остатки этого чувства наслаждения гармонией, но оно уходило. Это было похоже на то сожаление, когда кончалось какое-нибудь лакомство. Так хочется, чтобы крема в розетке было больше. Или хотя бы столько же; но он, соприкасаясь с твоей ложкой, тает, тает, и вот его уже нет — пустая, чуть липкая розетка. А крема нет.
Отец, уроженец Астрахани, еще с детства любил пить плиточный прессованный чай, любил сам его варить и, конечно, угощать. После обеда он приготовил свой терпкий напиток, уютно сел с владыкой Евсевием, и они предались счастливым воспоминаниям о Казанской академии. Мы, семья, притихли, а я, уже подремывая, пребывал в мире и покое, счастливо убаюканный доброй воркотней отца с гостем и все еще звучащей в моей душе музыкой.
II. АКАДЕМИЯ
С утра, после общей молитвы — философия, потом латынь, потом юриспруденция, затем музыка — теория и хоровое пение.
Заветная мечта поступить в Духовную Академию свершилась. Отец Павел — слушатель Академии! Его в равной мере влекут и священническая деятельность и вопросы теологии. Ему двадцать пять лет. Он мечтал принять сан, и это свершилось. Вместе с женой и двухлетней дочерью Надеждой он в Казани, в Академии. Успешно учится. Кроме того, музыкальность и хороший голос дают ему право еще солировать и регентовать. Жена ждет ребенка и, как втайне надеялись родители — сына, чтобы продолжать духовную династию. И вот свершилось — роды. Бог дал двух сыновей! Благодарю Тебя за всё, Боже!
Но как нищий видит себя во сне на королевском троне, а, проснувшись, оказывается по-прежнему алчущим и в рубище, так же мечта студента Академии и молодого отца рушилась, столкнувшись с реальностью.
Россия стала дыбом.
Война, бессмысленная, по ничтожному поводу, но война, ставшая мировой; затем зарвавшиеся бунтовщики свергли помазанника Божия — царя и установили своё, временное правительство; этих бунтовщиков сместили другие бунтовщики, которые разделились не по взглядам, а по количеству: одних оказалось больше, значит большевики, других, естественно, меньше, стало быть, меньшевики. И те, и другие заявляют, что теперь Россия принадлежит им и они свергнут Бога, как свергли царя, и установят своё правление, свои законы, своего бога.
В Казани, как и по всей Руси, разорение, нищета, голод. Нет не только хлеба или молока — нет ничего. Деньги не действительны никакие — царские отменены, керенские лопнули, новым, советским не верят. Что-то приобрести можно, только меняя — на серебряные вещи, золото, меха, обувь, одежду. А откуда у молодого студента ценности или даже одежда? Из ценностей только два золотых кольца, но это не золото, это символ.
В Академии студентов кормили обедом. Этот постный паёк был единственной пищей для всей семьи. У матери не хватало молока малышам, а потом оно и вовсе пропало, да и какое же молоко у отощавшей голодной матери, которая даже свою часть отцовского пайка старается отдать детям. Отец все время на лекциях или в библиотеке; старается подрабатывать, служа в храме для слепых или в церкви на пороховом заводе. Но это не было приработком, а, скорее милостыней, потому что никакие бумажные деньги не ценились, а единственно реальным платежом была царская мелочь, поэтому, имея в руках двухкопеечную монету или пятак, можно было искать сухари, а, если повезет, и молока.
И все-таки все усилия оказались тщетными: один из истощенных, изголодавшихся близнецов на руках обессилевшей матери перестал дышать. Сыновей назвали в честь дедов-священников — Вячеславом и Георгием. И вот Вячеслава нет. Если посмотреть в ящик, подобие гробика, который отец срубил из старых досок — какие гробы при такой разрухе – то даже в нем, маленьком, совсем не видно крошечное тельце сына — костистое с натянутой кожицей и скелетными ручонками.
В Академии жизнь все труднее — камни в окна, освистывания на улицах. Хозяева, у которых поселились, хмурятся. Павел, глядя на отощавшего, но еще живого Георгия и ослабевших и неузнаваемых жену и дочку, решает их отправить к дальним родственникам вниз по Волге в село Пологое. Он ведет Марию с ребенком на руках и трёхлетнюю Надюшку на пристань. Опять мольбы взять на какое-нибудь судно. Пассажирские уже давно не ходят. Уговорили хозяина дровяной баржи. И вот эти беженцы в Пологом. Тут родственники накормили, приютили.
Наведение порядка новой властью продолжалось, и шли слежки, обыски, экспроприации. Так, у родственников семьи Павла при очередном обыске взяли шубы, а у девочек Нади и Вали отобрали присланные к празднику тряпичные куклы. Сказали, что это для детского сада — пусть все играют, а не только ты!
Выпуск очередного курса Академии состоялся. Но выпускали молодых ученых не просто на служение храму или на научную работу. Они выходили из стен Академии, понимая, что их путь — среди ощерившегося, озлобленного, изголодавшегося зла.
Начало двадцатых годов. Подписан позорный Брестский мир, по которому Россия, почти выигравшая эту войну, отдала всю свою огромную западную часть и обязалась платить колоссальные контрибуции. Гражданская война угасала, потому что у России не было сил. Всю российскую человеческую ценность — дворян, ученых, всех, кого называли буржуями, тех, кто владел чем-то, начиная от банка и кончая домом или просто лошадью, вывезли, выгнали, сослали, раскулачили, переселили, расстреляли.
По России инквизиторской волной шел красный террор. Он жег, терзал, рвал все, что раздражало тех, кто захватил власть. Экспроприация. Значит открытый, беззастенчивый, наглый грабеж, сдобренный кровью.
У него есть, а у тебя нет, — бери!
Власть наша; не даёт — убей, но возьми!
Теперь всё, что было их — наше!
Все, что его — твоё!
А что есть ценность? Захватившие власть это сразу поняли. Это — золото, камни, серебро, земля, скот. Повальная, всеобщая, поощряемая зарвавшейся новой властью экспроприация. Хватали всё — от особняков и квартир до портсигаров и ботинок.
В Петербурге, каждое воскресенье перед Зимним дворцом выставлялись и продавались вещи из дворца. Толпы алчущих наживы собирались и хватали — стулья, ковры, абажуры, подсвечники, столы, комоды, чашки. Отец композитора Е. Брусиловского купил небольшую оцинкованную ванну с монограммой «АР» — купель, в которой купали цесаревича Алексея. Он принес ванну домой, и в ней держали уголь, дрова и ведра с квашеной капустой. Во время войны 1941 года семья композитора уехала в Алма-Ату в эвакуацию, и имущество погрузили в ванну. Поселившись в пригороде Алма-Аты, где жили без всяких удобств, они устраивали банные дни, и беженцы, и даже местные казахи приходили со своей водой мыться в ванне Алексея.
Банки, дворцы, имения, богатые дома, просто чужое имущество отобрано, взято, присвоено.
Но мы будем плохими хозяевами, рассуждала новая власть, если не отберем ценности у храмов, монастырей, церквей, церквушек, часовен и просто не возьмем икон в частных домах! Вот там-то золота! Нажмем так, что не только золото с елеем, сукровица потечет! А чтобы это не выглядело явным грабежом, скажем, что в пользу голодающих! И действительно, патриарх Тихон объявил, что церковные оклады с икон и ценные вещи, не считая священных сосудов, можно и нужно пожертвовать голодным и истощенным людям. Сами церковники и прихожане помогали снимать оклады, собирали золотые и позолоченные вещи и сдавали, желая истощенной Руси насытиться. Наивные священники, миряне, да и сам патриарх, не знали, что эти смятые и спрессованные ценности, были отправляемы в бездну, которая называлась обязательствами по Брестскому миру, или просто разворованы, а голодающие — они ждали, надеялись, умирали и благословляли Бога, думая, что кто-то, наверное, все-таки насытился и выжил. Не всех же накормишь, Россия велика.
Охота за ценностями стала надолго главной темой для Народного Комиссариата внутренних дел. Когда в первый раз арестовывали моего отца, то вместе с книгами, письмами, дарохранительницей и епитрахилью взяли чайные серебряные ложечки, которые лежали не у отца, а просто в буфете.
Ну, вот, кажется, и навели порядок. Фабрики, что обещали рабочим и на что главным образом и подкупили доверчивых трудяг, так им и не передали, землю у крестьян отняли, бедняков расплодили миллионами, кулаков переселили или сослали, а то и расстреляли; ученых, дворян, благородную аристократическую верхушку выдворили, вывезли на специальных поездах и теплоходах, предварительно обыскав и опустошив портфели, сумочки, бумажники, кошельки и просто карманы. Белую гвардию выгнали или перестреляли, из высокообразованных патриотов-военных — Деникина, Юденича, Колчака сделали классовых врагов, а то и посмешище. Университеты, академии, институты превратили в скороспелый ликбез, куда брали без экзаменов за пролетарские заслуги и выпускали, фактически, тоже без экзаменов. Нужны были хоть полуграмотные, но свои.
Татар, чеченцев, ингушей и прочих, говорящих не по-нашему, а, значит, думающих неизвестно что, переселили. Развели неисчислимое число сексотов (секретных сотрудников), доносящих обо всех и обо всем. Установили органы управления, где главным критерием для каждого члена были не знание и не образованность, и не способности или владение языками, а верность партии. Докажи, что ты верен партии — и ты с нами. Каждый доказывал, как мог — доносил на брата, предавал отца, писал поклепы на соседей. Но что особенно ценилось, это клевета на своего коллегу или начальника. Все клеветнические заявления принимались и чаще всего без проверок пускались в ход. Начальника сажали или стреляли, а доносчика повышали. Так оно и шло. Поэтому главным действующим органом, от которого все зависело, которого боялись, как дьявола, и который мог всё, был орган ЧК. Потом он стал называться НКВД.
III. В ЛАДОЖСКУЮ
Сапоги отяжелели от налипшей бурой глины. Продолжать путь по размокшей дороге нет смысла. Надо ждать, пока ветер развеет сырость и солнце, это надежное, неизменное солнце просушит, а, заодно, и согреет. Недавний выпускник духовной Академии, тридцатилетний отец Павел держал завернутого в полу серого подрясника малолетнего сына, который еще совсем недавно плакал, прося еды, а теперь затих и молчал. Нет, не спал, а молчал и глядел круглыми глазами куда-то. Хотелось сказать — ну, поплачь, пожалуйся, хоть чем-то вырази своё страдание. Такое молчание делает тебя взрослым и становится еще большим упреком твоим отцу с матерью.
Мать, оставив фанерный ящик, сбитый отцом и называемый чемоданом, пошла вместе с семилетними дочкой и племянницей к ступеням блестевшего после дождя храма. Там только что кончилась служба, и можно было у выходящих прихожан что-то — Господи, как сказать это слово — выпросить! Думала ли она, отличница знаменитых женских курсов, по изяществу и красоте завидная партнерша в танцах на выпускном балу, жена дипломника Академии — богослова и священника, что придется вот так, держа двух маленьких детей, просить Христа ради. Может быть, и не просила бы, но как вспомнит похороны одного из сыновей-близнецов и широкие глаза другого, кого сейчас держит отец, стоящий вон там, под тополем с серебрящимися после дождя листьями, так губы сами шевелятся, и, похолодевшая, разворачивается ладонь.
Вот уже две недели, как они, получив назначение для отца Павла служить в станице Ладожская Краснодарского края на Кубани, бредут, расспрашивая встречных, как добраться до этой самой Ладожской на Кубани.
Это было время, когда каждый встречный — враг. А места, где двигалась эта бродячая семья, напоминали им, астраханцам, астраханский базар, только голодный и потерявший разум. Калмыки в саманных домиках, в шапках с хвостами на маленьких лошадях, татары в селениях по берегам речонок, черкесы (тогда черкесами звали всех людей бесчисленного северного Кавказа), украинцы вперемежку с русскими, живущие в мазанках с длинными, часто поваленными плетнями. Все они теперь сами не знали, кто они — белые или красные, только все боялись любого нового известия и любого встречного.
На попутных лошадях с возами из встречных сел с просьбами, уговорами и мольбами, а чаще пешком по незнакомой земле, наполненной озверевшими людьми в шинелях, мундирах, рубахах, халатах, в фуражках, шапках, чалмах, бескозырках, среди голодных и полуголодных, но всех испуганных, они брели, расспрашивая — как идти на Екатеринодар-Краснодар. Баюкая малыша, успокаивая совсем перепуганных девчонок, прося помощи, а то и милостыни, они тащились на юг к Кубани.
Что за Кубань? Что там за люди? Иногда, как вот сейчас, когда отец Павел стоит с большеглазым молчащим сыном на руках, казалось, что уже больше нет сил, что нужно просто остановиться и ждать конца, но сознание того, что тебя послали, что за этим хаосом, где всем уже не до Бога, тебя ждут, что ты нужен, и где-то там, далеко есть храм, открытый, готовый, ждущий, где можно, осенив себя крестным знамением, сказать «Благословен Бог наш», заставляло двигаться и пересохшими губами шевелить: «Как на Краснодар?»
Сухарь, просвирка, да несколько копеек, на которые Мария с девочками в соседней с храмом избе купили ломоть хлеба и три яйца. Это была трапеза перед следующим — каким по счету — переходом. Еще неделя под все более обжигающим солнцем, и, наконец, скользя по крутым извилистым дорожкам, семья оказалась на берегу.
Река. Широкая, вольная, спокойная, мирная. Она течет, не обращая внимания на стрельбы, грабежи, приказы, даже ветры и дожди. Она лежит и медленно, почти незаметно колышется, дышит. Глядя на нее, такую надежную, вечную, понимаешь, что не все так ошалело, дико и окровавлено, что есть мир, тишина. Есть покой. Это особенно почувствовали бродяги, потому что совсем недавно — (или давно?) — теперь уж и не знаешь, сколько времени назад, они расстались с таким же покоем, на котором выросли. Волга. Могучая и тихая, зовущая, добрая и чистая. Казалось, что об этом забыто, что, может быть, этого и не было, и вдруг она, такая же, но это не Волга.
Это — Кубань.
IV. СТАНИЦА ЛАДОЖСКАЯ
Когда к станичникам приезжает поп, никто не думает, как он венчает или отпевает. Это, конечно, важно, но главное не это. Главное то, что это новая семья, еще один двор, и какими работниками будут эти хозяева двора, такая будет и оценка. В станице, где все трудятся в поле и у себя в хозяйстве, поповские обязанности на втором месте. Первое впечатление — каков хозяин, каков земледелец. Особенно чувствуется это в казачьих станицах, где у кубанских казаков свои законы, своё отношение к землице, свой спрос. Попу давался надел, лошадь, корова, двор, а теперь — живи. Пахота, посев, уборка, молотьба, упряжь, корова стельная, корова яловая.
С этим столкнулись двое молодых людей, из которых он — выпускник Академии, она — Высших женских курсов. Изможденные волго-кубанским паломничеством и только что потерявшие второго из близнецов сыновей, они начали свое новое существование. Моя юная мать впервые в жизни возится с лошадью, не зная, как отличить узду от недоуздка, запрягает и распрягает, задает корм и подходит к корове для дойки, а из-за крепких заборов за ней наблюдают строгие и суровые глаза кубанских хозяек, знающих вкус пота и сурово оценивающих того, кто умеет, а кто не умеет работать.
В первый год никто не помог, не посоветовал, не поддержал. Даже когда телилась корова, все молчали и исподволь наблюдали, как справятся. Да и понятно. Попа берут не на один день. Берут соседа. А сосед — на всю жизнь.
Был год неожиданного мучительного испытания. Мать — по хозяйству, отец — в храме, на крестинах, отпевании, молебнах, а в перерыве — упряжь, навоз, подойники, лопаты, топор, пила. Помощи никакой. Наоборот. Не успел начать распахивать надел, уже стоит кто-то из прихожан и, испытующе вглядываясь, зовет навестить больную тетку. До врача далеко, а тут, вдруг что случится, так что уж, батюшка, прости, Бога ради, пусть хозяйка пропашет, а ты уж поторопись, тут всего-то верст десять.
Как всё неожиданно обернулось. Преодолел все трудности со станичным хозяйством — вместе с женой справились с бахчами, скотиной, покосами, лишь бы иметь возможность войти в храм и, сотворив молитву, приступить к главному — соединению людей с Богом. Для этого и долгие подготовки к проповедям с одолением и изучением апостольских и святоотеческих трудов, и мгновенные отклики на любую просьбу прихожан — исповедовать, соборовать, помянуть, окрестить, обвенчать. Пусть это — хоть в станице, хоть за много верст от неё, пусть в снег или в град, в нетерпимую южную жару или зимнюю студёную ночь, пусть пешком, пусть на дровах или мешках, но помочь, облегчить, поддержать, выслушать, внушить человеку надежду, укрепить в вере, согреть любовью пастыря. Пусть зовущий немощен, раздражен, несведущ — все равно, каждому подать руку. Ведь это дело жизни. Для этого Бог и даёт силы.
Служение его становилось всё более и более тяжелым. Станичники реже ходят в храм, потому что из Москвы сообщили, что Бога нет. Об этом же заявляют приезжающие из Краснодара агитаторы. Некоторые из них уже являлись в храм и во время богослужения стояли с винтовками, в шапках, выкрикивая кощунственные лозунги, а кто-то даже положил окурок на блюдо для подаяния. То и дело проходящие через станицу отряды — и не понять, кто они — требовали, отбирали, конфисковывали.
Однажды ночью группа конников постучали в ворота и потребовали проводить ближайшей дорогой на водопой к Кубани. Когда напоили коней, решили этого, уже не надобного попа, расстрелять. Один из конников, готовый уже было навести дуло, узнав, что у попа есть дети, сказал: «Да пусть его живет. Иди ты к своим детям, только медленно».
До самого дома шел медленно, а, войдя и увидев жену, дочь и только что родившегося сына, не сказав ни слова, бросился к старенькому киоту.
Каждое богослужение, каждая треба становились все затруднительнее. С каждым приездом агитаторов — новые запреты: запретили звонить, запретили крестные ходы, грозили, что запретят крестить и венчать.
Молодой священник не ожидал такого. Он готовился к мирному служению, но уже ясно ощущал, что падение царского трона, революционный переворот стали началом борьбы с Церковью, Православием и верою. В своем станичном уголке он был свидетелем лишь того эха, которое долетало до Краснодарского края, но даже и оно было грозным. Любая малость, пришедшая из столицы, казалась гигантской, накатывалась раскатами грозы.
Гром грянул. Храм закрыли. Гроза обернулась маленькой, неровной, криво наклеенной на дверях храма бумажкой с какой-то смазанной печатью.
Приготовления к храмовому празднику, торжественному богослужению, проповеди о крепости веры в подражание великим подвижникам, поздравление паствы, именинников все это оказалось вмиг попранным этой жалкой бумажкой.
Готовый к трудному, но радостному дню, он стоял на ступенях храма — своего дома, отторгнутый, ненужный.
Больше того, станичники, до той поры не поддававшиеся на агитацию и запугивания, увидев закрытый храм и выгнанного отца Павла, сами боялись подойти храму и его служителю. Отец Павел впервые испытал чувство загнанности, видя вокруг себя отчужденных, боящихся поднять глаза прихожан. Остались только семья и хозяйствование на своём дворе. Да и двор ведь был дан как приложение к храму, а теперь он не настоящий станичник. Надо тихо сидеть и ждать, как повернётся судьба. Полным сил быть травинкой при дороге — растопчет любой. Но и это было еще не всё.
Появились новые попы советского толка — обновленцы. Они — за советскую власть, они готовы изломать многовековой обряд богослужения, готовы на все, только бы их не гнали.
Отец Павел с его неколебимой стойкостью в соблюдении церковного уклада был для обновленцев помехой, а поскольку жители станицы не вдавались в детали обряда, а обновленцы вроде как тоже молились, то многие станичники сочли возможным дружить с обновленцами, тем более, что новая власть их не преследовала. Это был новый удар по недавно вступившему на пастырский путь тридцатитрехлетнему Павлу.
До сих пор он не знал, что чтобы идти к своей Истине, надо уметь переносить удары. Может быть, как никогда, он почувствовал, что только в молитве он найдет помощь, только в имени Господнем надежду. Он молился уже не о себе. Он знал, что надо молиться о храме, о Церкви, о вере. Он понял, что молитва его должна быть тяжелой, весомой, потому что пришла пора молить Бога не о хлебе, а о защите Православия.
Прошел Великий пост, и в этой мрачной безысходности сверкнул луч надежды. Отец жены, тесть, узнав о бедствиях отца Павла, прислал весть из Москвы. Хотя в Москве сейчас очень тяжело, в одном окраинном храме с ласковым именем «Введение на платочках» есть место регента в церковном хоре. Может быть, отец Павел, знающий это искусство еще с Академии, согласился бы занять это место?
Регент? Пусть регент, но только бы быть в храме, участвовать в богослужении, создать стройный хор, поющий Чеснокова, Бортнянского — ведь так много хорошей церковной музыки на Руси! Может быть, не все пути еще закрыты.
ИЗГНАННИКИ
Служа в Ладожской, о. Павел неоднократно бывал в Екатеринодаре, столице края, и каждый раз чувствовал себя растерянным провинциалом в этом гнезде торговли, изобилия и жизнерадостности, центре всего юга необъятной России. Упросив перепуганного и обозленного, как и все окружающие, старого казака соседа отвезти его с семьей до Екатеринодара, он не смог добраться до самого города. Уже за несколько вёрст дороги были забиты возами, скотом, медицинскими повозками, сотнями солдат, матросов, то вооруженных, то безоружных, рвущимся ктоиз города, кто к городу, кто вообще поперек, только бы прочь с этого места. Отпустив вконец измученного возницу, Павел с Марией, Надеждой и с Юркой на руках, с фанерными ящиками, которые называли чемоданами, узлами и сумками с приготовленной для поезда едой, начали тоже метаться. Спросить не у кого. На вопрос все вместо ответа сами спрашивают, тем самым утверждая взаимное непонимание. – Вавилон! – бормотала Мария,– Вот он, Вавилон! А нужен был Екатеринодар с его вокзалом.
Когда же , наконец, пешком, с тюками добрались до города и отыскали этот вокзал, то подумалось – а лучше бы и не таскались! Казалось, и самого вокзала не видно. Вокруг, где только можно, и даже на путях, толкутся, дерутся, спят, едят, курят и мочатся. Постелена солома, а то и выломанные от забора доски, а то и просто кусок плетня. Поездов нет. Стоит пройти слуху о поезде или прогудеть рожку сцепщика, как сразу все это поле, весь этот лагерь взрывается, и сотни осатанелых переселенцев выстраиваются в бурлящие шпалеры по обе стороны пути. А когда подошедший поезд замедляет ход, но еще не останавливается, к его еще движущимся дверям бегут, цепляются, карабкаются, липнут целые толпы. И все это с тюками, узлами, чемоданами, детьми и еще винтовками, которые своими прикладами тяжело бьют всё, что под них попадет, а своей неуклюжей длиной вообще всё загораживают.
Отец с матерью смотрели на этот хаос, и становилось понятно, что уехать семьей с багажом, да еще с маленьким ребенком невозможно. Мелькнула базарная мысль – а если, по старой русской привычке, как на рынке, – переплатить? Но сейчас денег как ценности не существует. Золотые «николаевские» отобраны и пропали, «керенки» недействительны, а новые деньги никто не берет – их так много, и они ничего не стоят. Стоят только продукты и вещи. Но у семьи ни того, ни другого нет, а несколько яиц вкрутую, да вареная курица нужны самим – сколько еще до Москвы-то!
Недалеко от вокзала бродяг приютила добрая семья, когда-то жившая в Ладожской. Под тревожные вздохи и молитвы отец Павел отправился в очередь в кассу за билетами. Мария с детьми вскакивала каждый раз, когда ревела вокзальная толпа и подходили поезда. Проходили многие часы, а Паня пропал. Тревога росла. Тревога и за рискованное путешествие, и за Паню. Правда, он предусмотрительно надел гражданский костюм, но, несмотря на пиджак, длинные волосы и усы с бородкой выдавали попа, а отношение к «мракобесам» у революционного обывателя было, как к шелудивому псу – отхаркаться и плюнуть со смаком. Так учили Троцкий и Ленин.
Хозяйку дворика, где расположили свой скарб ладожцы, звали Степанида. Её муж, отставной солдат, работал обходчиком на одном из участков железнодорожных путей, и они вели свое хозяйство. Была лошадь, были козы, и была небольшая пасека тут недалеко за путями. Степанида только что съездила на пасеку, и Мария помогла ей распрячь и напоить лошадь. Паня, отправляясь за билетом, оставил Марии свои карманные часы, которые ему подарили прихожане, и она отсчитывала по ним вот уже девятый час. Степанида, у которой из-под длинной юбки высовывались штрипки мужниного галифе, даже предложила сбегать на вокзал «пошукать». Но вот в калитке показался и он сам. Застенчиво запахиваясь в пиджак, как в пальто, из-за оторванных в толчее пуговиц, он раскрыл прижатый к животу кулак. Там были смяты три «плацкарты» и одно детское место.(Из-за полного беспорядка на железных дорогах никаких номеров поездов, «купе» или нумерованных мест не существовало). Когда поедем и как – неизвестно, спасибо, что есть вообще билеты! Сочувствующая Степанида позвала гостей в дом на чашку чая с новым медом.
Неожиданный, как изгнание, переезд, дорога к городу, вокзальное столпотворение, смятые в кулаке из-под пиджака с оборванными пуговицами билеты и грядущий ужас путешествия – все это превращало семью в цыплят, запуганных пикирующим коршуном. Но бывалая Степанида, назвавшая чаем курятину, домашний хлеб с салом и блины с медом, была переполнена деловитостью.
– Батюшка, милый, матушка родненькая, так вы ж с Ладожской! И доченька, ясочка ты моя, как тебя кликать то? Надя? Надежда, стало быть. Так вот и надо надеяться. А уж Степанида-то скажет, на кого надеяться. Батенька-то твой скажет, на Бога, мол, надейся. Оно так и есть, Бог-от – всему пособник. А я, Степанида, вам, ясенька моя, скажу, что на Бога, да на Степаниду. Да не на меня, а на тезку мою, Степаниду «городскую», так ее кличут. Да вы, батюшка-матушка, знаете ж её, она же ваша, ладожская. А уж она-то вас знает! Как приедет, так только о вас и говорит. – Уж такой у нас в Ладожской батюшка, уж так понятно служит, да поет еще, так, говорит, заливается, что хоть еще одну обедню стой, лишь бы его такого горячего послушать. А молотит как! Ряску эту свою скинет, да еще прикряхтывает. И еще Степанида говорит, особо без него не обойтись, когда корова телится. Руки у него, значит, способные. Ну и с молитвой, конечно, а как без нее. Ты, батюшка мой, попей-ка чайку. А потом, как в сказке-то той – «не горюй, да спать ложись». Сегодня к вечеру Степанида-то должна приехать. Её городской-то зовут, потому она дома не сидит, а все ездит. Товары все возит взад-назад. Сегодня тут, а завтра в Харькове, а то и в Орле, а то в Курске. Все возит. Вот у меня мед берет, да кудай-то и везет. Уж Степанида-то все знает. Она все может, а вас-то, ясоньки мои, она хоть в Царствие Небесное, прости меня, Господи, отошлет.
Мне было три года. Я и до меда спал и после меда спал, а если не спал и почему-то хотелось плакать, то слушал Надино «травка зеленеет…». Отец с матерью ждали и, многократно трогая билеты, с надеждой молились.
Краснодарские ночи своей теплой свежестью заставляют забыть дневную жару и злобную суету. Кажется, что кошмары, испытанные днем, это страшные сны, которые ночью, именно нежной краснодарской ночью растают, как облачко, и новое утро заставит тебя перечеркнуть все ужасы и начать жизнь, всю жизнь сначала. Целительная южная российская ночь.
Степанида городская приехала к ночи. Не слышно было, как и на чем она приехала. Только грузные шаги на крыльце, да попискивающие от тяжести половые доски дали знать, что вошло что-то большое. Отец потом сказал, что это было Степанидо. Она была в распахнутой длинной казачьей черкеске, надетой на большую кофту и юбку. Из-под длинной юбки виднелись солдатские ботинки с обмотками. На голове был туго завязан платок, оставляющий только овальную часть лица и закрывающий всю остальную голову. Когда она большими пятернями размотала платок, оказалось, что вся незакрытая часть лица была будто обожжена и была почти кирпичного цвета, а все остальное лицо было светло-желтого, как яблоко золотая антоновка, тона. А из-под откинутого платка вырывались непокорные почти белые тугие косы. Эта, будто бронированная, Степанида была большая и не стеснялась своей величины. Она сразу заняла весь дом, и ее большие с белыми ресницами глаза были добры и не вязались совсем с ее голосом, чуть осипшим и скрипучим.
Отец, было приготовил билеты, чтобы поведать о наших затруднениях, но оно, это Степанидо, надвинулось на отца и, сложив большие ладони крестом, попросило благословения. Отец переложил билеты в левую руку, благословил «Во имя Отца и Сына», а глаза с белыми ресницами уже смотрели на билеты. И едва благословившая рука отца легла на ладонищи, а губы Степанидо каснулись руки отца, как билеты оказались на безбрежных ладонях.
–А в Ладожскую уж никогда?– спросил скрипучий голос. И тут же ответил: А и то! Поутру, когда выезжала, храм открыли, а на дверях красный флаг. Ну кто пойдет молиться под красным-то флагом? Только вот вас-то, батюшко вы наш неприкаянный, куда Господь направит? Степанида крутила билет между пальцами. – А я так думаю, куда бы ни направил, а все одно – на муку. Пора такая настала – кто без страха к попу подойдет? И сразу, будто это была всё одна фраза – Два билета, отец, возьмешь и вещи. Тёзка коня запряжет, отвезу тебя с дочкой на запасные пути. Там проводник вас посадит в вагон. Будете тихо сидеть и занимать места до подачи к вокзалу. Как поезд остановится, откроешь, батя, окно, я подам тебе сына. А уж матушке Маше придется помять бочка. Но с билетом пропустят – ведь место занято. Мама было начала – Степанида, дорогая, но как мы вас отблагодарим…– Маша, матушка Маша, милая, никому ничего не надо. Всё давно договорено. Сама сколько раз так ездила с сахаром, да с крупами. И вас Бог благослови на шальную дорогу. А нам, грешным, может Бог и простит какой грех из нашего–то беспутства, да обмана, прости Господи. Отец, сдерживая волнение, неровными шагами отошел к окну, мама, что-то слёзно шепча, поклонилась огромным ботинкам Степаниды. Была тёплая южная ночь. Я сладко спал.
БАБУШКА ЕВФРОСИНИЯ
На вокзале нас встречала бойкая, веселая, гостеприимная, милая старенькая бабушка. Это была тёща моего деда Евфросиния Савельевна. Она была дочерью бывшей крепостной, получившей освобождение, взятой замуж купцом Савелием Куприяновым. Мать ее рано овдовела и, оставшись хозяйкой большой торговой лавки в Москве, успешно вела хозяйство, делая засечки ножом на оконной раме о взаиморасчетах с покупателями. Она была безграмотна. Наняла дьячка из соседнего храма учить свою единственную дочку Фроську грамоте, научила ее всем наукам домоводства и выдала замуж за семинариста Стефана – впоследствии моего прадеда. И Фроська теперь перестала быть Фроськой, а стала величаться Евфросиния Савельевна.
Она не целовалась, не обнималась, а деловито причитая – «Слава Тебе, Господи…» грузила наши многочисленные узлы и «чемоданы». Она была с ведром, а в ведре лежало что-то завернутое. Наняв ломовика – возчика с телегой, Евфросиния Савельевна отвезла нас, беженцев, с нашим скарбом в маленький домик, похожий на наш, ладожский. – Правда, в этом домике «нашими» были только комната и перед ней маленькая «прихожая». Вход был со двора напротив покосившегося туалета. Пока мама распаковывала чемоданы и узлы, доставая оттуда простыни, подушки, одеяла, а Надя раздевала трехлетнего меня, бабушка доставала из ведра только что испеченные пирожки, а мне один пирожок с вареньем. Там же лежал примус, который бабушка принесла из дома деда, отца моей матери, где она жила. Все загляделись на это столичное чудо, на котором можно готовить, не растапливая печек и не разводя костра. Бабушка послала отца за водой к колонке, всего метров за двести от дома. Объяснила ему, как нужно нажать ручку и вода побежит сама. Чудо-примус поставили на стол. Бабушка какой-то железочкой что-то поковыряла в нем, покачала каким-то насосиком, который торчал сбоку, взяла спички, что-то зажгла и в комнатке сладко запахло керосином и копотью. Бабушка опять качала и вдруг что-то загудело, копоть прошла, а в примусе появилось ровное горящее кольцо, как пламя. Оно вкусно гудело и казалось упругим и уверенным. Отец поставил на примус ведро с водой, взятой из городской колонки. Мы вынули пирожки и недоеденное оставшееся от поезда и ждали, потому что из ведра уже пошел пар! Мы в Москве!
Однорукая хозяйка домика, у которой мы снимали комнату сразу же потащила все наши документы в милицию – на прописку. И вот тут-то мы впервые поняли, кто мы такие. Лишенцы. Лишенные прав жители. Им не полагается жить там, где они хотят, при карточной системе им не полагается продовольственных карточек – они полувраги и кормить их государство не должно. Поэтому с пропиской сразу же не заладилось. Хозяйке отказали. Отец было сам рванулся в милицию, но хозяйка даже закричала: Милиционеры от вас, милый, шарахнутся. Попу, да в милицию? Все равно, что дьявол. Уж лучше сама еще раз схожу. Возьму свою инвалидную книжку…
Через неделю прописали. Временно. Отец теперь имел право устраиваться на работу. Регентом. Но работа была похожа на крыловскую басню. Пели старики и инвалиды. Те, кто умел петь и любил музыку, храм обходили стороной. Все где-то работали, и если бы на работе прознали, что работник поет в церкви, никому бы не поздоровилось, а начальника записали бы куда следует. Отец познакомился с этими отставными знатоками православного пения – милые, добрые люди, но страх висит над всем и над всеми.
На другой день после приезда, прямо с утра, мама и Надя отправились в далекий путь. Им предстояло впервые в жизни дойти до Сокольнической заставы и там, в магазине, сделать первую московскую покупку. Они должны были купить ночные горшки для нашей семьи, потому что покосившийся туалет во дворе был переполнен и неприступен. Путешествие заняло почти целый день, и только к вечеру каждый из нас получил свой новенький сосуд. Мне, как маленькому – с нарисованной на эмали собачкой.
В комнатке, где мы жили, был один диван, на котором спали папа, мама и я, и рядом с диваном мы ставили разные стулья, чтобы можно было спать Наде, моей сестре, которой было одиннадцать лет. У входа в комнатку, прямо мешая проходу, стояло разбитое пианино. Крышки над клавиатурой не было и многие клавиши были испорчены или обнажены до деревяшек. На пианино лежали горы домашнего имущества от свернутых в узел простыней с дивана, до самовара, тарелок и платяной щетки. Папа попросил у однорукой хозяйки разрешения настроить пианино и она позволила и даже дала папе инструменты – молоток, железную отвертку с деревянной ручкой, но деревянные «щечки» с ручки отлетели, а штыри, которыми эти деревяшки крепились, остались, и было очень неудобно делать что-то этой отверткой, царапая ладонь. И еще дала плоскогубцы, но такие новые, что велела отцу их каждый день возвращать, а утром просить снова. Отец делал ремонт пианино чуть ли не месяц, но сделал, настроил и иногда оно из-под простыней и самовара, звучало. Особенно часто мама играла на нем, когда я сломал ключицу мне надо было делать в тазу теплые ванны. Мне и так то было больно, а еще в горячей воде, да в неудобной позе – чуть не вверх ногами. Я плакал. И тогда мама сделавшая мне горячую купель в тазу, просила Надю меня держать, а сама, прислонив к передней стенке пианино ноты, на которых было написано «Молитва девы» и нарисована женская голова с длиннющими волосами и сорвавшейся с глаза крупной слезищей, которая все летела и не могла долететь. И играла. Надя гладила мне в воде ключицу, массируя ее, а я все смотрел, как летит слеза и ждал, когда она долетит. А музыка все звучала, а я следил, а слеза летела. Вода остывала, меня вытирали, а в моей голове все летела слеза. Она еще и сейчас летит, хотя мамы и сестры давно нет,
Не могу остановиться, говоря о своей прабабке Евфросинии Савельевне. Худенькая, чуть сутулая, сильно постаревшая, с сухими, ласковыми узловатыми пальцами на искривленных временем кистях рук, она жила в квартире моего деда, близко к Преображенской площади. Мы часто приходили к ним, по пути в далекий наш Лаченков переулок. Она была энергичнее всех нас, ее окружающих. Получалось так, что среди взрослых, молодых женщин, она была всезнающей и всемогущей хозяйкой. А все потому, что она тихая, застенчивая, на моих глазах всегда угощавшая, но сама вроде как и не нуждавшаяся в пище, жила по каким-то старым, неведомым нам правилам. Я не видел, чтобы она спала. Или даже присела. Когда, позднее, я приходил, ночевать у деда из-за позднего времени, когда все спали, меня ждала Евфросиния Савельевна и давала мне подогретые, хрустящие, вынутые из неостывшей печки, оставшиеся от обеда макароны в старой, почерневшей, с отбитой ручкой глубокой чугунной сковороде. Они были особенно вкусны из ее сухих рук. По старым правилам у нее на столе, за которым все ели, столярничали, шили, готовили уроки, и который мы называли обеденным, всегда стоял кипящий самовар. Безмолвная, она все умела, все знала и была скоропомощницей в любом случае, в том числе и медицинском. И помощь эта всегда была удачной, хотя и пугающе необычной. Помню, как моя сестра, вымывая досчатые полы, занозила палец. Да так глубоко, что даже кричала от боли, что доставляла эта щепка, вонзившаяся глубоко в мясо. А сестра училась музыке и поврежденный палец грозно пугал. Швейные иголки, применяемые в таких случаях, в руках наших и молодых и старых женщин были бессильны. Они только расковыривали и мучили. Евфросиния Савельевна со своим обычным, чуть слышным причитанием: «Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!», легко подкинула углей в самоварную трубу и посадила около самовара сестру. Это уже было жутковато. Потом она взяла пораненный палец сестры и, перекрестившись, начала его у его основания перевязывать простой ниткой. Она перекручивала долго, натягивая так, что палец то краснел, то весь залился синевой и так вспух, что казался приставленной к ладони ржавой железкой. В это время из–под самоварной крышки начали вылетать и таять облачка пара. Значит внутри крутой кипяток. Скипело. Вся семья окружила бедную сестру и ее странного лекаря. Евфросиния Савельевна, все время шопотком причитая, потянула палец, поднесла его к самоварному крану. Побелевшая сестра зажмурилась. Узловатые пальцы лекаря сейчас были похожи на клешни рака. Они открыли кран и пузыристый кипяток полился на палец. В толпе окруживших завздыхало, заскрипело, зашмыгало. Кипяток лился. Мы уже представляли себе, какие ожоговые пузыри будут на руке сестры. Когда прикоснешься к горящей лампе или, перемешивая угли в печке, коснешься раскаленного, то потом долго мучаешься с пузырями, гнойниками, содранной кожей. А тут крутой кипяток и долго. Клешни кран закрыли. Взяли ладонь и поставили ее так, чтобы палец торчал. Потом они поправили веревочку, которая держала старые очки на курносеньком мизерном носике лекаря. И мы все будто тоже надели очки и взглянули на палец. Над чашкой, в которую сливался кипяток, торчал, как синий мокрый монумент, обваренный палец. А из него, как на кактусе распустившийся цветок, торчала распаренная заноза. И Евфросиния Савельевна своими, милыми нам, клешнями, просто взяла эту занозу и, как цветочек, осторожно отняла от пальца. Потом своим всегда чистеньким, стареньким, залатанным фартучком вытерла палец и начала раскручивать затянутую нитку. Прямо на наших глазах раскрученный палец бледнел, потом постепенно розовел. Глядя на растерянную сестру, Евфросиния Савельевна сказала:–«Побалуй, побалуй пальчиками-то, родненькая!». И тонкая сестрина рука начала перебирать пальцами, которые совсем не отличались друг от друга так, будто и не было и не могло быть заноз, волдырей, страхов, человеческих и музыкантских драм. Евфросиния Савельевна что-то шептала, а клешни, сложившись в троеперстие, потянулись ко лбу только что скорбевшей пианистки.
V. ПОРУГАННЫЕ СВЯТЫНИ
Отец Павел, выдворенный из храма в станице Ладожская новой властью и своими же собратьями — обновленческими попами, снова, как три года назад, не имея пристанища, перебирался на новое место.
Трясясь в общем, третьего класса, вагоне с женой, дочерью, трехгодовалым сыном и баулами, он уже думал о том, какие подберутся голоса и как быть с мужскими голосами — их теперь в церковном хоре не услышишь, и сколько будет человек, и какой репертуар подобрать, и если транспонировать, то надо самому расчерчивать нотную бумагу.
Думая о работе, еще надо было удерживать место в вагоне, потому что постоянных спутников нет, а на каждой остановке поезд, а особенно вагон третьего класса, осаждают лавины людей с мешками, чемоданами, тюками, с детьми, гирляндами висящими на матерях, группы солдат, матросов, цыган. И все это с воем, криком, плачем, руганью, а то и с выстрелами.
Еще там, в Ладожской, и теперь, когда придет ночь, или будет просто стоянка — ведь ехать до Москвы неизвестно сколько, вот уже четвертые сутки, а еще только проехали Харьков, он рассказывает жене и дочери о московских святынях, к которым они приближаются, о храме Христа Спасителя, о Кремле, соборах, усыпальницах князей, и живых святынях, монастырях Чудовом — мужском и Вознесенском — женском.
И вот, наконец, Москва. Слава Богу, добрались.
Приехавшему в Москву и сразу взявшемуся за регентство отцу Павлу, было не до походов по заветным московским местам. Был двадцать пятый год, восьмой год новой, советской власти. Антицерковный террор только еще набирал силу. Каждый день наносил новые раны московской старине, воплощенной в храмах, часовнях, дворцах, монастырях, памятниках. Уже несколько лет сносят памятники — Александру Второму, Александру Третьему, генералу Скобелеву. Затем пошли слухи о сносе Страстного монастыря. Когда отец Павел нашел время поехать помолиться в Страстной монастырь, он с женой приехал на развалины. Лежали горы кирпича, а где-то по краям внезапно открывшегося пространства ходили те, чьи кельи, насиженные и намоленные места, чьи души остались там, под клубящейся кирпичной пылью.
Затем вдруг даже до Черкизова донесся гул, будто далекого землетрясения. Оказалось, взорвали храм Христа Спасителя — главный престол Москвы, чудо творения архитекторов, инженеров и художников, памятник, построенный на народные деньги в честь победы над наполеоновским нашествием. Что ни день, то новый удар: закрыли, взорвали, разбили, сняли колокола, вывезли и свалили иконы, сорвали оклады. Потом к этому стал добавляться новый, особый террор разгулявшегося невежества — попа увезли, а жену не тронули, на другой день взяли и жену и сына, попа повесили на Царских вратах, попа раздели догола и гоняли вокруг храма, попа заставили влезть на колокольню и звонить, а потом сбросили.
Ночи стали бессонными. Все, кто имел отношение к старине, дворянству, Православию, храмам, были готовы к непредсказуемой и безнаказанной расправе. Всем известный протодьякон Холмогоров — высоченный рыжеватый красавец с великолепным голосом, ходил, не выпуская из рук чемоданчика, который уже уложил дома с женой — белье, сухари, носки, шапка, Евангелие. — перековка духовенства. Регенту закрытого и взорванного храма Христа Спасителя Александрову, оказавшемуся без работы и перспектив, под угрозой ссылки или чего-то в этом роде, было предложено организовать хор военных. Этот хор стал, конечно же, прекрасно петь — ведь это сам Александров! И вскоре стал называться Ансамблем песни и пляски Красной армии — любимым концертным блюдом Сталина. Протодьяконы Максим Михайлов и Редикюльцев под угрожающими намеками, оказавшиеся тоже выгнанными из храмов, пошли петь в Радиокомитет, а потом — с их уникальными голосами — в Большой театр.
До регента церковного хора, отца Павла, перековка еще не дотянулась.
VI. СЛЕПЫЕ
Они были в детстве крещены. Набожные семьи воспитали их в православной вере. Они были из разных семей. Родители некоторых были с доходами — кустарничали, у других совсем никудышные — сапожники-пропойцы; или это была тихая мещанская работающая семья, которая хотела воспитать ребенка в своем непритязательном духе, да Бог не привел.
Они были разных возрастов. Рябая была старше всех, но смешлива, как малыш. Была еще вдова, довольно молодая, никто не знал, когда она стала вдовой, но все ее звали «вдова»; она была набожная и строгая. С ними были трое мужчин, видно не очень большого разума и прилежания, охотно выпивавшие, когда подносили.
Может быть, они, такие далекие друг от друга, и не сошлись бы вместе, да уж так судьба решила — они хорошо пели, и их молитвенное ровное и стройное чистое звучание отверзало души слушателей. Может быть, им и удалось бы быть хорошим, а то и лучшим хором, да беда, что они знали наизусть только несколько молитв, знали, как ведется служба, и сопровождали ее, искренне выпевая полагающиеся песнопения, не меняя известную им мелодию на какую-нибудь другую. Когда их просили спеть «многая лета», они пели, когда надо было петь еще раз, они пели то же самое, и так много раз одно и то же. Если им говорили, что духовная музыка так несказанно богата, что одних «многолетий» существует в издании больше ста двадцати — только взять сборник, да взглянуть в ноты, они угрюмо замолкали, а советчик, опомнившись, стыдливо отходил.
Они, такие голосистые и от природы музыкальные, не могли читать ноты. Они были слепы. Кто от рождения, кто от несчастного случая. Кто смиренно нес своё убожество, кто осерчал на весь мир. Поют они одну и ту же молитву, которую услышали в храме, и сами понимают, что надо бы знать и выучить побольше, да как это сделать? Слава Богу, дают спеть и слушают, а то и угостят.
Они пытались петь в разных храмах. Их хвалили, благодарили, но больше не приглашали. Конечно, один набор выученных молитв — это мало. Но была главная причина, почему они не были желанными гостями на богослужении.
Во время богослужения хор своим пением следует за течением службы, согласуя своё пение с возгласами священника или диакона. Всё уже выучено, и нужно только, зная, что петь, дождаться момента, когда вступить в полагающийся миг. Если слышится возглас «и ныне и присно и во веки веков», то нужно спеть «аминь». Это так просто. Но не для слепых. Для людей со зрением есть рука регента, дающая начало и конец пения. Рука неподвижна, и вдруг она делает четкое движение, как будто толчок. Это тот самый сигнал. Короткий вдох и — «Аминь». Еще один толчок руки и — перестать петь. Просто.
А если руки не видно? Ничего не видно. Темно. Даже свет безжизненные глаза не воспринимают. Можно было бы для тех, кто различает свет, мелькнуть фонариком в глаза, и – «Аминь». Но глаза мертвы. Их нет. Есть слух. Это он — тот живительный ориентир, который воспринимает любые шорохи и передает их мозгу, заменяя зрительные впечатления. У человека без зрения слух, как и осязание и обоняние, особенно обострен. Он может уловить любое колебание воздуха, чтобы его истолковать. И такое колебание может заменить руку регента. Нужен звук. Он и есть невидимая рука невидимого дирижера. Этот звук — голос слепого регента. Он запевает, а окружающие быстро, ловко, осторожно пристраиваются. И получается, что после возгласа звучит сначала регентское «А…» А за ним поет весь хор. Поёт слаженно, уловив в этом «А…» еще и тональность, но поёт «…минь».
Вот с чем пришлось столкнуться отцу Павлу, когда в храм Введения на платочках, где он в то время регентовал, цепочкой, держась друг за друга, пришли слепые певцы и попросились попеть на левом клиросе, не беря на себя ведение богослужения, но только помогая ему.
В годы двадцатые-тридцатые, в эти злосчастные годы прошлого века, во всех храмах, которые еще не были разрушены, или закрыты, совершение богослужений проходило в неослабевающей тревоге. Каждое мгновение могла свершиться революционная кара — закрытие храма, арест молящихся, начиная с церковного служителя и кончая сторожем или случайным посетителем.
Ходить в храм было опасно. В храмах всегда были тайные наблюдатели, которые фиксировали все происходящее. Войти в храм уже грозило быть записанным в тайные списки. Придти и поставить свечу уже означало продемонстрировать свою неблагонадежность. Поющих же в хоре вместе с регентом причисляли к противникам советской власти. И совсем не удивительно, что богослужения иногда сводились к тому, что священник (на него смотрели уже, как на обреченного), читал и пел и за себя, и за диакона, и за псаломщика, и за хор.
Слепцы знали, что их, недугующих, принять за борцов против власти при всем усилии невозможно. Поэтому они смело пели, не боясь, но просились они петь в храме на самое скромное место, зная особенность своего странного пения.
Отец Павел, будучи в то время регентом, встретившись со слепыми, желающими петь в храме, сам начал с ними заниматься. Прослушав их и поняв их сильные и слабые места, он начал расширять их репертуар. Из произведений для церковного хора, написанных многими авторами, надо было найти по возможности одолимые для певцов. С другой стороны, надо было найти и не очень сложные в гармоническом отношении, чтобы проще было выучить; ведь учили они со слуха, когда он пел, а они повторяли. Выучить отдельно один голос, потом второй, потом попытаться вместе, потом еще раз, потом еще, чтобы мелодия вросла в поющего. Ведь у него, кроме своей памяти, нет опоры, нет нот. Даже если и выучили и пели вместе, радуясь и тому, что одолели, и тому, что получилось, и самой музыке, все же без запевалы, произнесшего первый слог и первую ноту, исполнять было трудно. Получалось все равно некрасиво: отец Павел или слепой поводырь поёт «По…», а уж остальные подхватывают: «…каяния отверзи ми двери».
Пока были разучивания, отец Павел стучал камертоном по столу или стулу, отбивая ритм пения. Как только камертон переставал стучать, ритм пропадал, пение растягивалось, размазывалось, необходимая стройность уходила.
Нужен был какой-то ориентир. То ли стук, то ли щелчок, то ли скрип. Но должно быть выполнено условие — звук четкий и очень тихий. Тогда кто-то из слепцов предложил стучать по спичечной коробочке. Сама коробочка, если она пустая, резонирует, а стук, как легкий щелчок, и обостренный слух слепцов это воспринимает, хотя окружающим это совсем, или почти совсем, не слышно. Они сами щелкали по коробочке и пели. Во время пения щелчки слышали только те, кто о них знал и к ним прислушивался.
Во многих храмах хоры распались. Безденежье, опасения, а то и просто страх рассыпали когда-то прекрасные коллективы. Настало время, когда все меньше оставалось храмов и еще меньше в них хоров. На клиросах стояли (если вообще были) несколько человек, и все знали, что за их пение во славу Божию они могут подвергнуться каре, сроки и формы которой неизвестны и поэтому особенно грозны.
Только жалкая цепочка держащихся друг за друга слепцов приходила в храм, постукивая перед собой палкой. Слепцы в храме пели с особым прилежанием, и когда у них почти пропали преследовавшие их недостатки, обнаружилась особенность, присущая пению и характеру именно этих певцов — талантливых и немощных, вдохновенных и убогих. В их пении, что бы они ни пели, был какой-то беспокойный, необъяснимый стон, который делал пение этих слепых особенно волнующим, стон, вносивший щемящий оттенок даже в светлое «Христос воскресе!»
Кто знает, может быть, их слепота избавила их от лицезрения творившихся вокруг ужасов. От лицезрения, но не от незнания. Они, зрительно отрешенные от жестокой действительности, щелкая спичечной коробкой, молитвенно стонали с извечной надеждой о прозрении — и себя, и как бы внезапно ослепшего мира, с ожиданием, что сбудется пророческое: «Прозри! Вера твоя спасла тебя».
СРЕДИ ВЁДЕР И КЕРОСИНОК
В Черкизово, в домике 42 в переулке Лаченкова, наша семья жила по неколебимому расписанию отца. Он вставал в пять, а в половине шестого уже уходил пешком в храм. В семь храм должен быть открыт и уже принимать молящихся, Так было заведено, что мама вставала вместе с ним, и хотя он уходил, не вкусив никакой пищи, она уже начинала дневную хозяйскую возню – сходить за водой с двумя ведрами, потом на рынок, потом готовить завтрак. Вместе с мамой вставала и сестра и тоже включалась в домашнюю хозяйственную жизнь. Уборка этих крошечных, как чуланы, но все-таки жилых комнатенок, чистка и бережное вытирание всех незначительных, но родных мелочей, и все это в тишине и полутьме, только при свете горящих лампадок. А я, самый младший, мирно спал в этой благословенной мирной тихой семейной хлопотне. Когда я просыпался, то уже включался в это упорядоченное существование. Мылся около таза, потом одевался в проверенное, чистое, иногда подштопанное белье и становился на молитву. Мама и сестра ждали меня, и мы молились вместе. Почти всегда получалось так, что мы начинали молиться в восемь, а в это время у отца начиналось богослужение, и мама с сестрой старались подгадать по времени совпадению начала молитв. Конечно, это бывало не всегда, но тем радостнее, когда совпадение получалось. Хорошо помню незабываемые минуты моего диалога с моей совестью, когда я, проснувшись, и слыша возню мамы и сестры, решал: поспать еще или встать и включиться в это домашнее действо, где я, как мужчина, должен делать свое, мужское, или подремать, потому что я еще маленький.
Я здоров и расту, и они там возятся, жалея меня. Для них я всегда маленький. Но если поднапрячься, то воду я принести смогу. Ну, хоть ведро. И вынести мусор смогу.
– А так хочется поваляться, понежиться. Ведь они не зовут, обходятся без меня. Значит, я им не нужен.
– А мне что нужно?
Вот обдала волна холодного воздуха – кто-то выходил на заснеженное крыльцо. А еще вечером папа говорил, что метет и крыльцо надо почистить. Значит, он чистил сам, а у меня в игрушках лежит новая детская деревянная лопатка. Ею бы и расчищать.
А она лежит, и я лежу, –
а сестра ходит по заснеженному крыльцу.
–А так хорошо полежать и потянуться.
Меня не беспокоили, не трогали. Больше того, даже оберегали. Но обыденную, тяжелую жизнь вели, потому что это надо. Это необходимость жизни. И постепенно я начинал беспокоиться о своем утреннем иждивенчестве и понимал, что бездельничать, когда рядом трудятся, неловко. И когда мои обвинения в свой адрес стали выливаться в определенные для меня понятия, вроде нахлебника или паразита, я привел себя к выводу, что лежать не просто стыдно, а позорно. Но как мне, мальчишке, включиться в помощь взрослым, не получив окрика дорогой сестры или любящей матери? Мое включение в помощь не должно быть навязчивым, а как будто бы случайным, незаметным. И я начал придумывать, как включиться в помощь, не называя это помощью. Перебирал разные варианты, и, наконец, решил начать. Но для того, чтобы начать, надо было быть готовым и не спать. Поэтому получилось так, что я, думая включиться в домашнюю жизнь, уже давно не спал, но притворялся, что сплю. И получалось даже так, что я просыпался еще при уходе отца и искал момента своего осторожного включения в семейную возню. Я следил за тем, что происходит, и уже в подробностях изучил порядок дел, совершаемых мамой и сестрой.
И вот однажды, подкараулив момент, когда вода была принесена и женщины перешли в комнаты вытирать пыль, я, накинув на нижнюю рубашку пальто, и надев на босу ногу свои ботинки, встал и прошел мимо женщин в холодный коридорчик, где была туалетная дыра. Они поняли по моей торопливости, что я сейчас вернусь и лягу в постель, и продолжали передвигать стулья и чистить потертый коврик под обеденным столом. Я хлопнул писклявой дверью в коридорчик, а сам шагнул два шага влево, оказавшись в закутке, называемом кухней. Там стояли на полу два ведра с водой. В нижней части кухонного шкафчика, как всегда боком стоял таз, чуть побитый по краям. Я тихо взял таз, поставил его рядом с ведром и, наклонив ведро, налил полтаза воды. Иногда я озирался, прямо, как воришка из рассказов Конан Дойля. Потом я оглянулся и, поднявшись на цыпочки, достал с печной притолоки коробку спичек. Со спичками я перешагнул через таз и подошел к кухонному столику, туда, где стояла керосинка. Снял с нее верхнюю часть, открыл фитили и, оглянувшись, чиркнул спичкой. Она загорелась так ярко, что могли увидеть мое преступление, потому что все свое детство я только и слышал – Не трогай спички! Не балуйся спичками! Я спешно зажег два фитиля керосинки и спичку потушил. Погасший огрызок я положил в карман пальто. Верх керосинки я поставил на место и чуть поправил колесики у фитилей, чтобы не коптело. Все было сделано. Осталось поставить таз с водой на верх керосинки. И тут я понял, что вся моя затея с помощью рушится, и мне надо либо все тушить и выливать, либо сознаваться в глупом, непосильном труде. Я не смогу поднять широкий таз с водой и водрузить его высоко на уже горящую керосинку. Фитили горят, таз стоит, и стою я, бессильный дурак. Если кто-то из женщин сюда заглянет, сколько будет шума, расскажут отцу. Отец долго, мучительно будет молчать, все затихнут и я, стараясь не плакать, буду дрожать, как флажок на ветру. Бежать? Плакать? Или разозлившись, тут прямо, незашнурованными ботинками разметать все, чтобы был пожар, потоп. Сделаю от бессилья черкизровскую катастрофу! А мама может подумать, что это сын так долго в уборной? Не случилось ли чего? И меня разоблачат. И тут я увидел на кухонном столике ковшик, которым черпали воду, наливая в чайник или в кастрюлю. Господи, только дай успеть! Я поднял таз и тихо, чтобы не расплескать, вылили воду обратно в ведро. Потом поставил таз на керосинку. Взял ковшик и, черпая им в ведре, начал переливать воду из ведра в таз на керосинке. Было высоко. Надо было всему вытягиваться и, уже не видя, выливать воду в таз. Надо было делать тихо. Очень быстро. А налить было нужно полтаза. …Девятнадцать, двадцать…не пролить бы, а то сделаю лужу, и тогда все летит. Тридцать… не перелить бы. Потрогал вытянувшись рукой – пальцы в воде! Ковшик на место. Спички на место. Керосинка греет воду. Я, хлопнув дверью коридорчика, прохожу к своей постели на старом сундуке. Ложусь. Жду наказания или скандала. Вот оно. Входит мама. Как всегда садится на край сундука и кладет шершавую руку на мою голову. Когда она недовольна, она тоже начинает с этого. Я съежился, как щенок, и жду. Рука мамы ожила и мерно задвигалась по голове. И до меня донеслось: – Ты хороший мальчик. Ты настоящий мужчина. Сильный, добрый. Но не стесняйся и зови нас, женщин тебе в помощь. Ведь мы и живем, чтобы помогать вам, мужчинам, когда вам трудно. Её мерный голос и добрый тон отогрели меня и я еще в щенячьей сжатости так же тихо проговорил :
– Мам, а можно я буду вставать вместе с вами?
– Зачем же? Просыпайся, как проснешься, а мы встанем, когда нам надо. Но если понадобится мужская помощь, мы, конечно, будем просить тебя. Мы это сегодня поняли. Но ты, наш мужчина, не включил на кухне электрическую лампочку, с ней было бы всё легче. А в темноте, представляю, как было трудно. Ну, поспи еще, если хочешь. Господь с тобой. А там, наверное, твоя вода уже согрелась. Пойду ставить тесто.
РУССКИЕ ЛИШЕНЦЫ.
Самые счастливые минуты для меня, мальчишки, были те, когда моя семья – отец, мама, сестра Надя и я садились за стол на свое место, ждали, а потом все вместе встав и выслушав, как отец читает «Отче наш», опять садились. Молитву перед трапезой отец иногда не читал сам, а, уже встав лицом к киоту, называл кого-то из нас. Этот момент заставлял быть все время во внимании, будучи готовыми читать своими устами. Для меня, юнца, этот краткий миг был еще тайной забавой – кто будет читать и как. Слушая, я отмечал недостатки и радовался очередной новой словесной краске. А когда я сам читал, старался говорить отчетливо и в то же время быть сдержанным и не играть словами. Ведь – молитва. Для всей семьи это был радостный тихий экзамен. И уже подходя к столу, мы все хотели не быть в своих словах, и в поведении, небрежными.
Когда читал отец, то каждый из нас особо чутко внимал, потому что в его устах было отражение нашего существования. Это мы знали и этого ждали. Сегодня с утра, когда мы с мамой ходили на рынок (в магазин нам нельзя, мы – лишенцы), то всё немногое, что там продавалось частниками, опять подорожало. И на обратном пути мама говорила – чем же мне накормить вас, милые мои, что за обед мне нынче сочинять. Наверное, опять грибная лапша. Ты с Надей замесите тесто и приготовьте все для варки. Только делайте тесто потоньше, а то весь керосин уйдет в лапшу. А потом сядем перебирать сухие грибы. И когда отец читал – «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», мы понимали, что это его насущная боль, потому что мама каждое утро должна была что-то выдумывать. И когда отцу приносили полведра картошки, мы понимали, что это дар Божий. Картофель во всех возможных видах, нескончаемые винегреты, жареная капуста, свой, печеный мамой, хлеб. Продуктового разнообразия нет. Зато есть разнообразие кулинарное. Мама готовила прекрасно (их там, на Высших женских курсах, специально учили), но тут, в отсутствии разнообразия в продуктах, ею вместе с Надей делались изысканнейшие блюда. Мы знали, что кроме муки, картошки, грязных огурцов и измятых порванных помидор, приобретенных в магазине по завышенным (для лишенцев) ценам, от стола нечего было ожидать. Но все-таки на столе было изобилие, и было вкусно и красиво. Каждое блюдо всегда удивляло новизной. Мы все ценили труд мамы и Нади, пытающихся из бросового сырья сделать лакомый подарок. Вот почему очередное собрание семьи к обеду или ужину было всегда праздничным. И молитва, как благодарность, звучала не формально, а глубоко содержательно, наполненно. Обедая, что-то за столом прося или передавая, мы были в том особом, серьезном настроении, когда кусочек нового блюда или ложка картофельного супа были, казалось, особо взвешенными. Поэтому наши ужины, обеды были всегда значительны и молчаливы. А говорить стоило только при смене блюд. Конечно, никакого вина или пива или соков не было. Соки в половине яблока, которая и была десертом. Из–за стола во время еды могли вставать только мама или Надя. Когда насытились, ждали за столом, ожидая последнего. Потом все вставали и благодарили Бога, что сегодня могли поесть. В приготовлении стола все были участниками, поэтому, вставая, каждый чувствовал особое единение и да чуть, пусть греховной, гордости, что мы, несмотря на всяческие трудности, получили возможность красивого, дорогого своей семейной ценностью, обеда, где содержание обеда, его смысловая значительность были дороже, чем самое дорогое, богатейшее лакомство.
Я уже тогда понимал, что в любви и крепости семейного круга заложена та уверенность, что обосновывается в человеческой натуре. Заложена крепость, сила духа, Вера. От отношения отца, матери, деда, бабушки, или братьев друг к другу, к окружающему, зависит вообще устойчивость семей, фамилий, рода, села, города, государства. Если человек провел начало своей жизни в атмосфере честности, любви, ответственности за содеянное, если то добро, что было заложено в него, как и в каждого человека, (а ведь не будете же утверждать, что вылупившийся младенец – злодей и интриган?), если эта готовность к добру была развита в нем его любящим окружением, то он, выходя в грозную жизнь, будет так же искать в ответ тому, что он несет сам, открытое, доброе, целомудренное. Потому что в нем есть уверенность в крепости того, что заложила в нем любовь его семьи. Семьи, какой бы она ни была – родной ли, или воспитателями, наставником, бабушкой, или любящими соседями. А крепость эта могуча, сильна. Она – та сила, что может побороть непобедимое. Крепость эта – уверенность в добре. Вера.
VII. ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ
Церковь Введения во храм Пресвятыя Богородицы на окраине Москвы в Черкизове, построенная на средства прихожан–ткачей, отделочников, работавших и живших в этом районе, имела еще свое адресное название — Введения «на платочках».
На душе становится уютно, когда слышишь эти русские, чисто московские, ласковые адреса: «на платочках», «Николы под вязом», «Николая красный звон», «Николы на курьих ножках», «Троицы на грязех», «Ермолая на козьем болоте», «Николы мокрого». Русской домовитостью веет от этих названий. Думаешь об этом храме и входишь в него, будто в родной дом. Эти дополнения согревают русской чистотой и родственно сближают.
Рядом с Черкизовом есть целый узел мест, где названия дополняют и украшают одно другого: Покровский мост на реке Яузе, бывшее село Введенское и храм «Введения во храм», Дворцовое село Покровское и храм «Покрова Пресвятой Богородицы». И неважно село ли названо по храму или храм по селу. Важно, что в этой сплетенности есть то самое благочестие, которое является особо русским.
Если от Покровского моста через Яузу пойти к огромному сооружению из многих краснокирпичных корпусов, которое носит имя «электрозавод» (улица, по которой идешь, теперь Электрозаводская, раньше была Генеральная), то с правой стороны увидишь широкий бульвар, усаженный по бокам линиями развесистых деревьев и широкий лабиринт из клумб и дорожек. Бульвар идет вверх, а дома за деревьями слева и справа будто подчеркивают возвышение, поднимаясь ступенями один над другим. Эти ступени из домов и устремляющийся вверх бульвар будто затягивают тебя туда, вверх — выше и выше. А там — далеко и высоко, кажется, над бульваром и домами, будто солдатами, стоящими по росту, там, в выси стоит храм. Снизу он кажется сказочным, игрушечным. Он будто взлетел над всем, что вокруг, и парит — белый с куполами, окруженный по нижнему краю зеленью, которая казалась облаками, несущими неземное сооружение Увлекательно идти по лабиринтам тропинок, все более приближаясь к храму. По мере приближения он меняется, будто поворачиваясь и красуясь, открывая то резную ограду, то силуэты колоколов на звоннице, то уже все яснее видный образ над входом — Введение Богородицы во храм.
Этот каменный сияющий дворец так и называется храм Введения. Он предстоит на горе, как на блюде. Вершина горы окружена оградой, за оградой зеленое кольцо, как будто зеленым мехом обложившее подножие храма. В этом зеленом лабиринте тропинки, лавочки и иногда могилы каменные, покосившиеся, уже вросшие в землю плиты с надписями — протоиереи, купцы, монахини.
Внутри чувство прохлады и душистой сырости — на улице жарко. Веет стариной и ладаном. Только уголки света около узких окошек — длинные золотые полосы на каменных плитах и очажки света на подсвечниках от зажженных свечей. Иногда в мерцающем свете мелькнет серебристое пятно оклада на лике или видно неясно очерченный глаз или персты на иконе, освещенной тусклой лампадой. Таинственная тишина висит в храме, и только потрескивание свечей или чей-то вздох и бормотание в темноте нарушают эту густую тишину.
Отец, будучи регентом, все же в душе носил желание вернуться к пастырской деятельности, и когда он узнал, что в храме Введения у Покровского моста нужен священник и там есть кандидаты на это место и Совет прихожан выбирает кого-то из кандидатов, он решил принять участие в этом необычном конкурсе. Конкурс был прост — надо отслужить Литургию и сказать проповедь. Несмотря на начавшиеся гонения на церковников со стороны новых властей, кандидаты были. Дошла очередь и до отца.
Деревья, окружавшие храм и будто возносящие его на себе, расцвели и сверкали зелеными блестками. Жаркий день сделал всех пришедших в храм по-весеннему радостными и улыбающимися. Весна. Воскресенье. Праздничное богослужение. Весь храм убран цветами. У каждого образа зажженные большие свечи, отороченные цветами. Пестрит цветная масса рубах, кофт и кофточек, косынок, платков. В этом букете воскресной одежды, как сверкающие пятна, белые платки и платочки на головах женщин. Особенно немолодых. Белый платок или сияющая белизной косынка в храме — что может быть радостнее и праздничней. А сегодня еще один праздник — новый священник.
— Сколько же ему?
— Тридцать пять.
— Говорит громко!
— Понятно служит!
В переполненном храме служба подходила к концу. Множество причастников подходило к Чаше, и вот, наконец, взволнованный священник вышел на амвон. Вышел и встал молча, с глазу на глаз оказавшись перед массой не просто слушающих Литургию, а слушающих его самого. Он стоял перед массой ожидающих, надеющихся, жаждущих живого слова пастыря.
Как решиться начать, как сказать то, что на душе, что нужно сейчас этим людям, потерявшим почву под ногами, людям, вера которых уже называется преступлением.
— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Именно здесь, на своей первой проповеди в первом храме отец, оканчивая ее, сказал:
— И если спросить, Господи, что же такое счастье? И где оно? Я все потерял или теряю или могу потерять. Так разве есть оно? И мы, православные христиане, молодые или узнавшие жизнь, полные сил или больные, семейные, неженатые и вдовые должны сказать: Боже! Счастье — это мое умение с благодарностью радоваться тому, что Ты мне дал сегодня. Благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты мне дал. Я возрадовался тому, что я имею и постараюсь не утратить Твоего дара.
Проповедь окончена. Еще с затаенным дыханием все стояли, переводя на себя все, что сказал этот молодой отец Павел, а он чуть в задумчивости пошел в Царские врата, чтобы взять с престола крест. Над Царскими вратами было изображение Святого Духа — золотого голубя на фоне множества золотых, вырезанных старыми мастерами лучей. Сегодня, в праздник, это тоже было украшено цветами, и как раз, когда отец Павел проходил под этим изображением, один цветок оторвался и упал прямо на его разгоряченную, встрепанную голову. Все, кто следил за уходящим священником, даже ахнули. Могло показаться, что что-то рушится. Но все было как прежде на месте. На голову пастыря упал цветок. И все, и сам отец Павел, взявший в руки этот маленький живой комочек, поняли это как знак, как символ. Как точку в заключение той взволнованной проповеди, что была совершена.
Отца пригласили быть постоянным священником в этот храм. Счастливое возвращение к духовной, творческой жизни.
Началась пастырская деятельность. Службы, молебны, панихиды в храме, где кроме главного были еще приделы в честь Иоанна Богослова и Иоанна Воина, посещения заболевших или немощных. Пришли и заботы о самом храме — ремонты, украшения, отопление, постоянные посещения все более враждебных чиновников с просьбами о дровах, свечах, электричестве, гвоздях. Как бы это не было тяжело, все это преодолевалось для того, чтобы собравшись вместе с верующими иметь возможность вслух сказать: «Благословен Бог».
Любовь отца к хоровому пению была пожизненной, и часто после всенощной к нему в алтарь приходили мужчины из хора и вместе с ним пели, или «Днесь спасение миру бысть», или «Воскрес из гроба». Это был заключительный музыкальный аккорд Всенощной.
Счастье это не длилось и трех лет.
Общее собрание рабочих Электрозавода постановило, что рабочим надо смотреть кино. А кинозала, чтобы вместил всех желающих, нет. А рядом есть церковь — очень большое помещение. И там молятся Богу. А на лекции нам сказали, что Бога нет. Поэтому постановляем обратиться к власти, чтобы храм закрыть и отдать нам. А лучше храм сломать, а клуб выстроить новый.
Вышло постановление — храм сломать, как не имеющий исторической ценности. Этот сказочный дворец разрушили в 1929 году. Много разворовали, многие церковные вещи: иконы, утварь, облачения, труды художников, мастеров разных профессий, — куда-то вывезли.
Личные вещи отца, находившиеся в храме, взять не позволили, а тоже вывезли. Искать их или взять значило ограбить государство. Поэтому в один миг отец не только оказался без работы, но и без одежды.
Когда он служил, моя сестра вышила для него пояс и подарила на праздник. Пояс вывезли тоже.
Надежда Павловна, дочь отца Павла, вспоминала:
— Я узнала, где этот склад и направилась на Никольскую улицу около ГУМа. После просьб и уговоров мне разрешили туда войти и поискать пояс. Кучи подсвечников, паникадил, икон, облачений, утвари были нагромождены без всякого порядка. Милостью Божией пояс оказался сверху всех святых ценностей, которым мы поклонялись и которые любили. И потому, слава Богу, мне не пришлось на них наступать, ворошить и тревожить их.
Меньше, чем через три года после счастливого начала, отец Павел стоял на груде кирпича, оставшейся от дворца на холме.
VIII. ЧЕРКИЗОВО
Далеко за Сокольниками — Черкизово, Преображенская застава, Преображенский вал и бесчисленные, как запутавшаяся сеть, кривые улочки. Названия у них внушительные: Пушкинская, Некрасовская, Лермонтовская, но есть и улочки другого смысла: Крайняя, Последняя, Открытая (по ее направлению и на ее месте теперь Открытое шоссе).
Это обиталище рабочих, мастеровых, ремесленников, кустарей. Одноэтажные, сильно вросшие в землю дома — в три, много в шесть окон; высокие, глухие заборы; громоздкие, бревенчатые, огромные сараи; запирающиеся, да еще с засовами, тяжелые ворота и такие же глухие калитки с замками, секретами и многоголосым скрипом.
Вода — на далеком углу двух переулков в колонке. Тяжелая чугунная тумба с литым выступающим краном и такой же литой, похожей на обрубок сука торчащей ручкой. Ручка тугая, и нажать надо было сильно, чтобы из крана, на который вешалось ведро, потекла вода. Вода текла, пока ручка была нажата, и долго держать ее было трудно, особенно для пожилых. Поэтому самое верное было — повесить ведро, повернуться к колонке спиной и нажать на ручку, сев на неё. Ведер было не меньше двух, а если с коромыслом, то и четыре, а если с детьми, то и больше.
Воды на стирку, на готовку, на мытье должно быть много, а ходить за ней далеко. Поэтому сходить по воду означало процедуру — освободить все ведра, разлив остатки по кастрюлям, одеться, а то и закутаться, если зима, не забыть книжку — за водой всегда очередь.
На краю Черкизова много лошадников-частников, державших лошадей и тем зарабатывавших. Сосед наш через дом занимался извозом, грузил и перевозил мешки, дрова, мебель, доски. У него были разные телеги: с широким полком, с высокими краями, был даже двухколесный прицеп — для бревен. Лошадники были: водовозы, извозчики с легкими колясками разных видов, с широкими, а то и кожаными сиденьями, или колясками на четверых-шестерых с двумя поперек расположенными скамьями, или фаэтонами с опускающейся крышей.
Зимой коляски менялись на сани, открытые или с крышей, обязательно со стеганой, а то и с меховой полостью — широким полотнищем, прикрывавшим ноги, а то и всю фигуру седока снизу до груди. Были лошадники, сдававшие лошадей внаём или торгующие ими. Были водовозы, возившие от колонок или из пруда воду по домам. У них на телеге лежала большая бочка с дырой с боку её брюха. Дыра затыкалась длинной деревянной ручкой-пробкой, и было любо смотреть, как водовоз, подставив ведро, выдергивает пробку, и из дыры вылетает упругая толстая струя. Водовоз воду продавал, поэтому большинство черкизовцев ходило за водой к колонкам.
С бочками ездили так же и золотари — чистильщики отхожих мест. Золотари были в сапогах, больших кожаных фартуках и с кожаными перчатками. К их бочкам были привязаны на длинных толстых ручках-палках деревянные бочонки-ковши. Запах от этих повозок был постоянный. Золотари ездили обычно по ночам. Нам рассказывали, что для этих ночных тружеников пекари изобрели специальный хлеб калач — пышную белую булку с ручкой. Покупатель брался грязной перчаткой за ручку, булку, работая, съедал, а ручку мог выбросить. Эти занятные детали, услышанные мной в Черкизове, я прочел потом у Гиляровского.
Жестянщики, сапожники, вязальщики, портные, столяры, маляры, штукатуры жили там же, в Черкизове. Было множество мастерских по ремонту мебели, починке примусов, керосинок. Большинство из живших в нашем районе кустарей были евреи. Среди них были и мастера высокого труда — врачи. Врачи детские, врачи зубные.
Недалеко от нас жил врач, у которого была даже вывеска «Доктор Бродский». Меня несколько раз водили к нему. К врачам ходить я боялся, но к Бродскому шел всегда с готовностью. Дело в том, что у него в маленькой комнатке-приемной, где посетители снимали пальто, калоши и сидели, ожидая приёма, на стене висел очень большой, метра полтора в высоту плакат, на котором был нарисован человек. Плакат цветной, отпечатанный в типографии с надписями по-немецки. Видно, он был привезен Бродским или прислан ему из Германии. Человек был красивый, голый, но вся привлекательность его была в том, что в районе любого органа была как бы отвернута кожа и там были видны работающие маленькие люди.
В районе сердца видны маховики, колеса, поршни, насосы и работающие с насосами и клапанами маленькие люди в красных халатах с масленками, гаечными ключами. Напротив желудка — ковши, лопаты, грузчики, которые из кучи, образовавшейся под пищеводом, лопатами перегружают что-то в кишку, в которой есть двенадцать углублений-ниш, и в каждой из ниш сидит мальчик и что-то чистит и передает соседу. Сложные лабиринты, шахты, тоннели, в которых идут, ползут, везут бесчисленные шахтеры-труженики. Это кишечник.
Я мог, не считая времени, стоять возле этого плаката и изучать всё, где трудятся эти бесчисленные добрые работяги, которым доктор Бродский должен, как он говорил, помочь или микстурой, или порошком, или, хоть и неприятно, рыбьим жиром. Платить врачу тогда было принято не демонстрируя, а скрытно, и мама, прощаясь, прикасалась сжатой ладонью к руке доктора и, стараясь незаметно, разжимала ладонь. Доктор говорил «мерси» и мгновенно дернув, как фокусник, рукой, уже протягивал разжатую ладонь для прощального рукопожатия.
Соседи евреи к нам в гости не ходили, и мои родители к ним никогда не наведывались, но дети дружили и очень крепко. Более близких приятелей и товарищей, чем Соломон, Фима, Таня Шнейдер, Эся Эстис, Люся Народецкая, Зяма Блехман у меня не было. Да и я, когда приходил в семьи к этим моим друзьям, чувствовал особое тепло в домах, внимание, участие, помощь, близкий и крепкий контакт с взрослыми. Моя мама поощряла такую мою дружбу и принимала и Фиму, и Эсю, и всех моих приятелей одноклассников с тем же теплом, какое мне оказывали в их семьях. Я дружил, отвечал открытостью на искренность и верностью на дружеские порывы. Только потом я понял, что, несмотря на разные религии, разновременные пасхи, и не сходные, а иногда и противоречивые традиции, нас сближало одно общее — гонимость. «Лишенец» был таким же объектом безнаказанной травли, как и «жид». Чувства, возникавшие во мне при окрике «попович!», были те же, что у Соломона при «жиденыше». Наших родителей преследовали, оскорбляли и унижали с поощрения государства одинаково. Арестовывали, ссылали, описывали имущество, не принимали в институты совершенно одинаково.
Парии. Вот что нас объединяло и сближало.
За окнами, разрисованными серебряными папоротниками, мороз. Улица в сугробах. Что раньше было тротуаром-дорожкой около домов — один сплошной длинный сугроб, приваленный к домам, и по нему — тонкая струйка тропинки, по которой встречным не разойтись. Поэтому, видя встречного, заранее шагают одной ногой в сугроб, чтобы пропустить, либо идут навстречу и, сойдясь, обнимаются и так в обнимку крутятся, топчась и меняясь местами.
На дороге же кучи снега, нагроможденные при расчистке колеи для лошадей с санями. Смотришь из окошка, в котором дыханием оттаял дырку, и видишь, как за вершинами этих куч видны дуги и верхи голов лошадей и всё, что наложено на грузовые, похожие на полок телеги, сани. Возчики в тулупах идут рядом, на поворотах, на разъезженных местах подпирая сани, чтобы не занесло, и не завязли в снегу.
На подоконник садятся воробьи и синички, и я, оглянувшись, открываю форточку и сыплю птицам либо крупу, а чаще размельченные сухари. Сыплю и спрыгиваю с подоконника, а то увидит мама — «Простудишься!». Со вторых внутренних вставных рам течет вода, рамы запотели, и подоконник мокрый. Я вижу темные пятна на намокших коленях и иду в угол — читать и сушиться.
Не помню автора книги, но называлась она «Подводные Робинзоны», обо всех тех, кто трудится под водой — собирателях кораллов, ловцах устриц, охотников за акулами. Книгу перечитывал несколько раз, отыскивая на карте мира Чили, Эквадор, Перу и, конечно, переводя все это на себя, брал нож, с ножом прыгал со стула на пол, полз под стол, и, не дыша, орудовал ножом, вскрывая раковины и собирая жемчужины.
Когда уже стучало в висках, набухали глаза, я «выныривал» из-под стола на стул, вдыхал воздух и устало, действительно устало, повалившись на диван, считал жемчужины.
Я пойду в школу только следующей осенью. Сестра учится. Отец целый день в церкви. Уходит в шесть, приходит в десять вечера. Утром у него ранняя обедня, потом поздняя. После обеден — молебны, панихиды, крестины. Правда, крестины были очень редко. Советская власть крестины не одобряла. Были октябрины. Хорошо еще, если эти требы в церкви, а то, простояв на ногах с шести до двух-трех, надо идти на одну из бесчисленных черкизовских улиц и причащать, соборовать или отпевать.В шесть часов — вечерня или всенощная. Конец всех служб — к девяти.
Я жду отца, чтобы рассказать, что я видел, что читал, как играл, нырял за раковинами. Мама этого не поймет. У нее только одно – не ушибись, не ходи гулять далеко. Во дворе не сломай ветку или доску в заборе, или еще чего не натвори, ведь мы живем в частном доме, и его двор тоже частный.
Сутулый, с большими бровями хозяин — собственник дома. Его жена маленькая, горбатая, следит за мной из-за занавески или с крыльца, делая вид, что подметает. Следит, чтобы потом сказать матери об ее сыне – таком маленьком, но уже хулигане. Опасаясь лишний раз выйти во двор, мотаюсь с книжками по комнатам, присаживаюсь у печки — высокой, круглой, обложенной по всей поверхности железом. Она топится из маленького закутка, который мама называет прихожей, и ее круглая стенка выходит в столовую, главную нашу комнату метров 10-12-и, и спальню, где умещаются только кровать и миниатюрный отцовский письменный столик.
Из прихожей дверь в кухню, где большая печь, в которой всё и готовят. А из столовой дверь тоже в каморку метров 6-7-и. Это наша с сестрой комната. Там кровать, на которой она спит, (я сплю в столовой на диване) и шкаф с одеждой. Шкаф небольшой, да и наш семейный гардероб невелик. У меня только одно пальто, которое только что перелицевали, и мама говорит: «Как новое!» Меня смущают заштукованные петли, которые выдают возраст одежды.
Обувь мне чинят, поэтому хожу с толстыми подметками и железными подковками. Играть в футбол на улице мама не советует. Да я и сам понимаю, если разобью, то в чем ходить? И так уже несколько раз говорилось, что я расту и нужны новые ботинки. Обувь мне покупали на рост — на один-два размера больше. Купив, надевали несколько носков, чтобы нога не прыгала. Так же со штанами и куртками. Я ходил в штанишках. Когда еще штанишки были короткими, то чулки, которые надо было пристегивать резинками, были, хоть и многократно заштопаны, но натянуты и без дырок. Вообще я был всегда хоть и заштопанным и перелицованным, но чистым и свежим. Меня приучили беречь даже ветхое.
IX. ПЕРВЫЕ БРЮКИ
Какой я стоял гордый. В углу на стуле валялись ненавистные мне короткие штанишки, чулки и надоевший лифчик, к которому пристегивались натянутые чулки. А на мне были надеты специально сшитые знакомым соседом-портным брюки. Первые в жизни брюки. Под ними, конечно же, новые трусы, на ногах носки и ботинки. Я — мужчина. Ловя собой отражение в зеркале, что держала мама, я стоял, по-мужски подрыгивая коленками, ощущая кожей тяжеловатую ткань по всей ноге. А еще рубашка с большим воротником — матроска. Мне казалось, что я вырос, что я выше всех, что я мощный. Что я Гаттерас, Геркулес, капитан Немо.
Мама тоже радовалась. Она, мало знакомая со светской мужской одеждой, впервые одевала сына, готовя его к светскому приему, ко многим радостям, собравшимся в этот день.
Епископ Евсевий, педагог отца по Казанской духовной академии, оказался в Москве и служил в храмах города, а теперь собирался в свой свободный день поехать отдохнуть под Москву, на дачу одного из знакомых. Высокий, худощавый, динамичный, в беседах интереснейший и остроумный, он предложил отцу Павлу, взять с собой в поездку на дачу его сына. Отец согласился, мама всё приготовила, и вот сын стоит в новых брюках, готовый к своей первой поездке за город, да еще и без родителей, да еще с самим Евсевием, да еще в гости к незнакомым, но уже заранее гостеприимно настроенным русским религиозным людям. Евсевий, одинокий, бессемейный человек, сам был рад такому преданному восторженному «мужскому» сопровождению. Он еще не знал, что вскоре будет выплевывать зубы в свердловской тюрьме, попадет в лагерь под Новосибирском, а в ноябре 1937 будет расстрелян.
— Здоровайся первым! — напоминала мама. — Не бегай, не топчи траву! — не умолкала она. — Не порви чего-нибудь. Помогай! — были напутственные слова, когда она, крестя, сажала меня на коляску извозчика рядом с владыкой Евсевием. Хозяин, пригласивший архиерея на дачу, был тут же. Он заехал за Евсевием и захватил по дороге его молодого спутника. За мной заехал сам архиерей! Нас повезли на Павелецкий вокзал.
Даже и без маминых наказов я все равно был сосредоточен, даже напряжен. Я без мамы! Я с самим Евсевием! Я в брюках! Даже в поезде я уже вел себя, как мужчина. Садясь, я подтянул брючины, чтобы не натянулись при сгибании ноги. А как было замечательно, чуть небрежно дрыгнув ногой, положить ее на другую и сидеть нога на ногу! Я знал, что это неприлично, особенно при таком спутнике. Но на скамейке стало тесно, пришлось стиснуться между соседями и я все таки полминуты посидел, держа ногу на ноге, выпрямившись, и мне казалось, что я такой большой, длинноногий.
От станции до двухэтажного бревенчатого дома с большим садом, песчаными дорожками и ухоженными клумбами было недалеко. Нас пригласили на террасу с плетеной мебелью, где было кресло-качалка, впервые мной увиденное, и я представил себе, как я мчусь на этом кресле, раскачиваясь, аж до потолка. Но тут же в голову воткнулось мамино — не сломай чего-нибудь! Нас усадили и предложили холодного кваса с изюмом. Из большой тяжелой кружки я пил квас и смотрел, как около террасы бродит большая собака и, как мне казалось, смотрит на меня. Я уже мысленно играл с ней, ездил на ней, бегал по песчаным дорожкам и по траве. В Москве, где мы жили, во дворе было несколько деревьев, но мне не разрешали ни бегать, ни лазать по деревьям. Такие просторы, что были передо мной, мы с собакой очень скоро бы освоили. Но я сидел и, как полагалось, осторожно брал кружку и губами ловил подплывающие ко мне изюминки. Другая рука высовывалась за окошко террасы, где сидела тоскующая по беготне и забавам собака. Из кухни, что была недалеко от террасы, доносились вкусные запахи. Готовили обед. Видимо, торжественный — на террасу пришли еще новые гости, и завязывалась обычная цепочка общения: приветствия, знакомства, представления, благословения, лобызания и «как доехали?» и «сегодня дождя не будет!». Хозяин и крупная рукастая хозяйка хлопотали, мечась между гостями, кухней и накрытым в глубине дома столом. Я не выдержал и в тот момент, когда к Евсевию подошла хозяйка, доливавшая квас, подошел и попросил разрешения помочь, предполагая, что таская дрова или воду, смогу поиграть с собакой. Евсевий, одобривший мое предложение, спросил у нее, в чем Юрочка сможет помочь и, обратившись ко мне, сказал: «Пойди с Агриппиной Филаретовной и помоги, в чем нужно». Большие руки большой Агриппины взяли меня, покрутили. Я почувствовал на своей голове тяжелую руку и услышал: «Какой у вас, ваше преосвященство, милый спутник, ну, прямо, кавалер!»
Кавалер. Я впервые услышал такое обращение. Кавалер — значит мужчина. Я почувствовал себя полным сил и готовым к мужским свершениям — колоть дрова, запрягать лошадь, носить тяжелую мебель, двигать шкафы и рояли. Я шел с Агриппиной, готовясь к свершениям.
В просторной кухне около пылающей печи суетились женщины. Многие в светлом, все покрытые белыми косынками. Присутствие архиерея делало их, кухарящих, уже приподнято молитвенно настроенными. Пироги, заливное, изысканные закуски — все это рыбное и молочное — архиерей мяса не ест. Я уже смотрел на дрова и мог начать помогать топить– печь, -дома я всегда топил, когда Агриппина спросила: «Что бы дать нашему помощнику кавалеру?» Женщины загудели вокруг меня, и слышалось: «Миленький! Картинка! Чистый кавалер». Я потупился, но мои мускулы налились энергией.
— Да мужских-то дел нет.
— Испачкается!
— А вот есть мужское дело, — раздался голос Агриппины. – Он нам собьет сметану!
Она дала мне в руки глиняный горшок, похожий на перевернутый церковный купол с плоским донцем, наполненный густой сметаной.
— Вот, Юрочка. Сбивать масло умеешь? Вот этой мешалкой, — она дала мне деревянную лопатку, — сбить сметану, чтобы была густая, как масло.
— Да он забрызгается!
— А дайте ему фартук!
И женские руки надевали на меня и завязывали дамский фартук (на брюки-то!) и тянули меня по ступенькам заднего крыльца, чтобы, усадив на скамейке и отогнав собаку, которая прибежала уже сюда за мной, показать мне, как сбивать. Я стоял около замшелой зеленой скамейки с глиняным горшком и лопаткой в руках, в огромном отороченном кружевом фартуке, облегающем меня всего. Женщины, снабдившие и обрядившие меня, уходя оглянулись, и я услышал: «Ну прямо, принцесса!»
Такого я не ждал. Я, тот самый Гаттерас, я, кавалер в новых брюках — принцесса? И все это из-за фартука и этих кружев. Я уже собрался бросить эту затею и отнести горшок в кухню, когда на дорожке, идущей вокруг дома, показалась группа гостей во главе с Евсевием. Хозяин рассказывал гостям о саде, цветах, московской природе. Епископ, увидев меня с горшком, похвалил за помощь, а я, держа горшок одной рукой, старался другой поднять и засучить за пояс этот злополучный фартук, чтобы исчезли эти кружева и все могли видеть новые брюки. Принцесса!
Гости стояли вокруг, и я вынужден был сесть на скамью и начать крутить лопаткой сметану, которая и так была густой. Зачем ее еще сбивать?
Но сказано сбивать, и я сбивал. Гости прошли, а я сидел и сбивал. Собака лежала поодаль и жалостливо смотрела на меня, понимая, что я как друг по игре потерян.
Я крутил ложкой тугую сметану, иногда загребая снизу, в надежде на скорую взбитость. В дверь кухни было видно, как носят к столу дополнительные блюда, как вынимают из жерла печи коржи для торта. Собака заснула. С террасы доносились реплики гостей.
С засученным за пояс фартуком я не забывал о своих новых брюках, чувствуя, что они на мне, что они до самых ботинок. Почему-то они стали еще тяжелее. Собака подняла ухо, встала и, подойдя, села напротив, глядя на мои штаны. Я почувствовал, что скоро конец взбиванию, потому что сметаны стало меньше. Собака подползла ко мне и, преданно положив голову у моих ботинок, облизнулась. Ложка глухо стукнула о стенку горшка. Я взглянул. Сметаны не было. Поднял горшок. Вся сметана расползлась по моим брюкам и текла к ботинкам. Собака лизала ботинки и круглое донышко, которое я выбил, усердно сбивая. Засученный фартук был сух. Штаны мокры и липки. Ноги были пропитаны сметаной. Гости садились за стол. Агриппина Филаретовна спускалась с крыльца за взбитой сметаной.
X. СЛОВО
Архиепископ Евсевий до 1931 года служил в Свердловске. Когда он мог посещать Москву, он служил в папиной церкви. Не знаю уж, как это случилось, но он взял меня к себе посошником.
У архиерея есть три спутника, неотступно следующие за ним во время службы, помогающие ему и в трапезной храма, где стоят молящиеся, и в алтаре. Почтение перед чином и возрастом заставляют их быть всегда в помощниках — понести коробку с митрой до извозчика, помочь одеть или снять пальто. Обязанности иподиаконов — одевать, сопровождать епископа и присматривать во время службы; держать и носить подсвечники с очень длинными свечами, соединенными наверху. В одном из них две свечи — дикирий, а в другом три — трикирий.
Обязанность посошника — носить посох епископа и подавать ему его. Когда епископ входит в храм перед богослужением, его уже ждут иподиаконы и посошник с посохом. Посох — высокая, больше метра, металлическая трость с несколько изогнутой перекладиной-ручкой наверху. На ручке обычно укреплено миниатюрное распятие. Перекладина высоко и как ручка почти никогда не используется. Под перекладиной есть выпуклость, на которую вешается чехол посоха примерно на половину его длины. Чтобы епископу удобно было брать посох, надо раздвинуть края чехла и открыть металлическую трость. При передаче посоха епископу посошник целовал его руку.
Посошник всегда рядом, куда бы ни шел и где бы ни стоял епископ. Только в алтарь епископ не ходит с посохом, а оставляет его около Царских врат. Выходя из алтаря, берет его снова. Посошник выходит из алтаря несколько раньше и, взяв прислоненный к иконостасу посох, стоит и ждет.
Выход епископа из алтаря во время богослужения всегда момент торжественный. Он сопровождается либо торжественными песнопениями, либо происходит во время нависшей паузы, такой волнующей и интригующей. Выход же посошника, этого предвестника напряженного момента, всегда тешил мое тщеславие. Зная, что на тебя обращены тысячи глаз, что твой выход заставляет присутствующих испытывать волнение, ты старался быть сдержанным и сосредоточенным.
В службе у меня были любимые и нелюбимые места. Там, где надо было долго стоять, держать посох рядом с архиеереем, который, мне казалось, долго читал или молился, было утомительно, и я заставлял себя напрягать все внимание, так как любое моё движение могло отвлечь или нарушить ту молитвенную атмосферу, которую сохраняли все.
Особенно я любил проповеди.
На самой высокой ступени амвона стоит архиерей, лицом к народу. У него в руках посох, на который он, пожалуй, впервые за все богослужение, опирается. Рядом с ним, лицом в ту же сторону, я.
Пастырь, выходя к собравшимся, своей речью ставит точку в заключение сегодняшнего моления в храме. Все уже прочитано и спето. Осталось только осенить себя крестным знамением в последний раз и в душе своей сказать аминь. И этот аминь произносит он, вышедший на амвон.
Когда этот момент приближается, все сослужившие, все причастные, все молящиеся вопросительно, с напряженной пытливостью ждут — будет ли пастырь говорить, готов ли он принести заключительную мысль, так всеми ожидаемую, сгусток духовных ценностей, явившихся сегодня во время чтения Евангелия, Деяний апостолов, песнопений и возгласов. Долгожданное слово пастыря.
— А будет ли СЛОВО?
— Сейчас будет СЛОВО.
— Подойдем ближе, начинается СЛОВО.
СЛОВО — это то, с чего начался мир; евангельские семена сеятеля; тот истинный хлеб, чем жив человек.
Все человечество треплет, болтает, перечеркивает, снова пишет и безотчетно произносит разноязыкие слова. В книгах, газетах, журналах, словарях мелькают буквы, складываясь, смешиваясь и множась.
И только однажды эти буквы сплетаются в свое истинное сочетание, когда в храме пастырь перед лицом Бога говорит о содержании богослужения, священнописания, содержании души человека. Произносит СЛОВО.
Нужно быть умудренным, все знающим и все продумавшим, в душе своей все пережившим, нужно иметь право, чтобы достойно нести СЛОВО.
Владыко Евсевий — высокий, с чуть заметной проседью в усах и небольшой бородке, в очках. У него были беспокойные, всегда подвижные и будто внезапно замиравшие пальцы. Он резко брал посох, но не вырывал, а давал время поцеловать руку, резко перехватывал двумя руками во время проповеди, отчетливо, почти скульптурно быстро складывал их то в троеперстие, то в символическое ИС ХС для благословения.
Он начинал говорить, держа посох, будто схватив его. Мне казалось, что он своим обволакивающим голосом схватывает и слова, вытягивая, удлиняя, будто распевая их. Это не было пение, это были скульптурные, как и его пальцы, слова поэта, радующегося тому, о чем он говорил.
И богомольная Мария, восторженно слушающая Христа, и прилежная Ма-а-рфа, так тщательно готовящаяся угостить дорогого гостя, — обе хороши, если они вместе и если обогатят друг друга тем, что имеют. Растягивая имена, он будто видел тихую Мари-и-ю и энергичную Ма-а-арфу. И Марии нужно прилежание Марфы, и Марфе нужно отдать время молитве, особенно, если рядом пастырь. Обе они едины, и зовут их почти одинаково. Так и каждый из нас, должен соединять в себе усердие молитвенника и труженика.
Перед нами лица, лица Внимательные, зачарованные, истовые. Празднично повязанные, гладкие и морщинистые, открытые или обрамленные волосами, и направленные в одну сторону глаза.
Глаза слушающие, внимающие, думающие, глаза светящиеся. Присутствуя на проповеди, будучи свидетелем значительного момента — передачи и восприятия СЛОВА, я понял, что самые красивые глаза не те, что с ресницами или необыкновенными бровями, не миндальные или круглые, не с поволокой или нарисованные, а глаза озаренные и обогащенные СЛОВОМ и направленные внутрь себя.
XI. БЛИНЫ
Перед строжайшим семинедельным Великим постом есть неделя мясопустная, когда не разрешается есть мясо, но можно рыбное, скоромное (молочные продукты), спиртное. Именно потому, что разрешается есть животное масло, неделя так и называется — МАСЛЕНИЦА. Неделя блинная.
В районе, где мы жили — Черкизово, Преображенка, Сокольники — для ее населения, кустарей, ткачей, многочисленных лошадников, считалось, что это те последние семь дней перед постом, когда еще можно оскоромиться, и поэтому эти дни стали днями отхождения от дел, неделей веселья и застолий.
Соседи знали, что в доме с широкой басовитой калиткой живёт священник, и на масленицу многие звали отца на блины. Отец брал меня с собой, чтобы, сославшись на ребенка, можно было бы не засиживаться.
Блины пекутся и едятся в огромных количествах. Старики едали блинов до сотни. Да это и не удивительно. Славно было закусить рюмку водки горячим блином, обязательно тонким, почти просвечивающим, окунутым в сметану или в горячее растопленное масло, в горячий же, жидкий, чуть подсоленный желток, съесть блин, обернутый вокруг кусочка селедки или семги, и видеть, как на столе стоят десятки мисочек, тарелочек и судочков с грибками, соленьями, рыбными разносолами и просто лежат осетрина, белуга, севрюга, икра кетовая, икра зернистая, икра паюсная, икра ястычная.
Горячую рыбу подавать не принято, но стол должен ломиться от рыбного и масляного разнообразия. Гостям, перекрестившимся и севшим за стол, нужно было только выбирать, что положить на верхний блин из дымящейся стопки на его тарелке и, выбрав кусочек, положить на блин, обильно полить маслом, сметаной или яйцом, а то и тем, и другим, и третьим вместе, завернуть блин в трубочку, сломать пополам и такой капающий горячий конверт положить в рот. Если блин действительно блин — тонок, как папиросная бумага, то такой смачный конверт почти не жуется. Он глотается, и глаза уже ищут, чем начинить следующий и какую водку заедать следующим смачным мешочком.
А в это время хозяйка несет на тарелке в крахмальной сухой салфетке уже следующую гору горячих блинов, которые надо сразу же брать и, начинив, съедать немедленно, чтобы не дать им остыть. Графины на столе все меняются, и хозяева похваливают свои настойки (на масленице пилась, главным образом, водка и всевозможные настойки на ней – на лимонах, на орехах, на чесноке, на меду, зубровке, анисе, перце.). Хозяйка атаковала гостей, еле успевавших съедать, все новыми порциями.
На кухне, из глубины печи кочергой подгребали уголья и к этим угольям ставили сковородником на длинной, чуть у самого сковородника обгоревшей палке, намасленную сковороду, стряхнув с нее очередной готовый дырчатый блин. Масло стояло либо в горшочке, либо в миске. Мазали его специальным помазком — половинкой сырой картофелины или луковицы, насаженной на вилку. Окунув эту половинку в масло плоской, обрезанной ее стороной, быстро водили по сковороде, из макитры черпали порцию жидкого теста, лили на сковороду и сковородником эту сковороду чуть крутили, чтобы тесту можно было разлиться ровно. Затем — к углям в печь, снять с другой сковороды блин, смазать, налить, покрутить, поставить к углям, затем вынуть из печи одну из сковородок, ножом перевернуть блин и снова поставить в печь.
Это называлось обедом, хоть и ели блины, а уж только потом — чай. Каждый из гостей съедал уж не менее двух десятков, мой дядя Петя, который ждал масленицы, чтобы ходить в гости, съедал до ста штук. Значит, спечь надо было непредсказуемое число блинов, и сделать это не заранее, а именно в нужный момент. Несмотря на спешку, каждый блин должен быть похвален, а, значит, нельзя ни недопечь, ни перепечь, и в каждый блин надо вложить хозяйскую душу.
Словом — широкая масленица!
XII. ТРОЙКА
Наступил последний день масленицы. Последний день дозволенного веселья. Всей семьей мы ждали, когда к дому подкатит традиционная тройка, чтобы ехать кататься по Черкизовскому валу и бульвару.
Был легкий мороз, казалось, что совсем тепло, но когда долгожданная тройка появилась и стала напротив наших ворот, то у коренника, вскидывавшего к дуге голову так, будто он хотел откинуть шевелюру, или будто ленты, повешенные на дугу ради масленицы, ему мешали, я увидел вокруг ноздрей комки инея, и понял, что это мороз и такой иней будет у каждого из нас. Мне всегда нравились заиндевелые брови и волосы на висках и краях шапки.
Сели, шаля. Шалости начались уже с одевания, когда кто-нибудь опаздывал, мы нарочно прятали его варежки, и к нашей радости он и суетливо ищет и еще спрашивает у нас: «Ну, скажите, спрятали ведь? Да?» А мы, все отъезжающие, в том числе и мама, которая не ехала, но нас заботливо провожала, смеялись и кричали: «Да нет же, ну, скорей! Ехать надо, а тут варежки!» Варежки, наконец, находились, и это вызывало еще больший смех. Мы, толкаясь, стараясь посадить соседа в снег, выскакивали к розвальням, где на облучке ногами назад сидел кучер в тулупе, подпоясанный веревкой и в шапке-ушанке с опущенными, но не завязанными «ушами». Повалились в розвальни на сено под нескончаемые напоминания мамы: «Осторожнее! Не упадите! Вы, уж, (к кучеру) не гоните!»
Мое внимание сразу же и до конца поездки было обращено на кучера — хороший или нет, добрый или недобрый, даст подержать вожжи, поправить, или не даст? Все, кто сел, передвигались, толкались, смеясь, накрывали друг друга платками и шубами, которые мама, непрестанно бегая в дом, выносила и, бросив их на нас, подсовывала, подпихивала под наши бока и ноги.
Я понял, что кучеру надоело слушать бесконечные предупреждения и наставления, и он, повернувшись еще больше, так, что одну ногу ему пришлось положить на облучок, а другой покрепче упереться в дно саней, пробасил: «С Богом!» И потом, привычно распевно произнес, накручивая вожжи на варежки: «Н-н-о! Милаи! Застоялись!», — и натянул вожжи.
Вот он, сладкий для меня момент — предвкушение скачки. Уже крикнуто, уже натянуто, а мы стоим. Коренник как вздергивал головой, так и сейчас вздергивает, будто и вожжи, и окрик — это не для него. Пристяжные — одна вялая, гнедая с навозом на коленках, понуро стоит, будто не понимает, какой это праздничный для нас день. Другая, серая, со вздутым животом натянула постромки, дернула, но куда-то в сторону, и опять стала. Это — разлад.
Я понял, что это никогда не организуется, и вдруг показалось, что никуда мы не поедем, если все будет так, как сейчас. Пропала так долго ожидаемая масленица с катаньем, о котором мечталось год. Но оказалось, что этот окрик еще не был настоящей командой, потому что ямщик все еще накручивал, как будто примерял витки вожжей на рукавицы, но вот, наконец, накрутил и встал. Встал!
И тут с лошадьми что-то случилось. Коренник стал трясти мордой не так, как прежде, широко мотая, а мелко встряхивая из стороны в сторону и резко, как будто хотел сбросить сосульки с заиндевевших ноздрей. Вялая гнедая пригнулась, будто бы ее сейчас ударят, и она с боязнью ждет этого, а правая с животом, та, что дернула, повернула голову в сторону коренника и вдруг неожиданно схватила зубами вожжу и, схвативши, замерла.
«Трогай, леший!» — все так же нараспев забормотал возница. Коренник нехотя, как будто его отвлекли от чего-то важного, тронул. Тронул, а мы ни с места — полозья примерзли. Тогда коренник, как будто с духом собрался и дернул еще раз. Полозья завизжали, захрустели. Сдвинулись. Все мы обернулись к маме, чтобы увидеть, что она понимает нашу радость и разделяет ее, замахали ей руками, варежками, платками. Замахали быстро, потому что нам хотелось ехать быстро.
Но ехали мы очень медленно. Я перестал махать и стал искать глаза возницы. Но кроме спины в тулупе с веревкой и верха шапки я ничего не видел. Коренник шел. Не бежал, а шел, и мне казалось, что он вообще не может бегать, а как водовозная кляча, может только тащиться, искажая, портя нам всю радость катания, всю масленицу.
Около домов, что мы проезжали, стояли знакомые мне мальчишки в валенках, к которым (на мальчишку по одному) были прикручены веревками коньки. Мне так хотелось, чтобы наши лошади мчались, а мальчишки — каждый на одном коньке — цеплялись бы за наши розвальни и друг за друга и катились бы за нами. Но ребята не обращали на нас внимания. Наша медленная езда не вызывала у них зависти и даже малостью не привлекала.
Повернули на Некрасовскую улицу, выехали на Вал. Кучер натянул вожжи, и коренник побежал! Правда, вразвалку, лениво, но побежал! Как жалко, что мальчишки этого не видели. Не видели, как мы, мне казалось, помчались, и я даже привстал навстречу ветру, хоть и слышал сзади голос сестры: «Юра, сядь! Что говорила мама? Сядь сию минуту!»
Но я даже не оглянулся. Мы мчимся. Мы летим. Лошади бегут, я стою, и ветер рвет на мне шарф и шапку. Мне не страшно. Я закаленный, я Гаттерас, я Немо. Я бы и руки сложил на груди, да просто знаю, что там, сзади, не поймут этого. Ну, уж, ладно, не буду, но посмотрите, как мы летим! В это время коренник поднял хвост, под хвостом его, как в фотообъективе, раскрылась диафрагма, и он, перебирая ягодицами и иногда издавая хлопающие звуки, будто лопаются мыльные пузыри, выбросил из себя тугие клубки. Несколько раз он открывал и закрывал диафрагму, потом закрыл, опустил хвост и побежал резво. Мы ехали по Валу и многие прохожие останавливались и, улыбаясь, смотрели на нашу тройку. А и то, масленица!
Но вот выехали на Преображенскую заставу и повернули налево к Архиерейскому пруду. Тут мы увидели другую тройку, которая, примчавшись по другой стороне Бульвара (от пруда), круто заворачивала, пересекая нам дорогу. Нашему кучеру пришлось даже резко рвануть вожжи, чтобы подать лошадей вправо. «Шалые! — ругнулся кучер. — Прямо шалые!» И почему-то улыбнулся. Надя, Валя вскрикнули от резкого поворота в сторону, а я понял, что моя надежда на нашу тройку тщетна. Да и кучер не любит быстрой езды, он обыкновенный возница, и лошади его — клячи, и вожжей его мне не надо.
Шалая тройка виднелась далеко впереди нас, по обе стороны их розвальней клубился снег, и сами розвальни от большой скорости кидало из стороны в сторону, и веселые крики, вопли, взвизгивания седоков говорили, что для них масленица уже веселая, озорная, даже шалая, а наша масленица — тихая езда на унылых лошадях.
«Ездили? — спросят нас.— Ну, ездили. — На тройке? — Ну, на тройке.» Но масленицы не было. Мне это было так ясно, что я даже сел вниз, на дно, на сено, повернувшись лицом назад и бросив смотреть на кучера н лошадей.
Позволив себя закутать в шубу, я уныло смотрел, как нас догоняет пара лошадей — коренник под пестрой дугой и одна пристяжная. Догоняли быстро — для них масленица была тоже веселой.
Видя, что быстрая езда не про нас, я принялся за орехи, мои любимые, кедровые, которыми мама нас снабдила. Тут я услышал голос нашего кучера, ставший мне таким неприятным, но сейчас он стал похож на ворчание или глухое рычание: «Вре-е-шь! Ну вре-ешь!» Мы посмотрели вбок и увидели, как пара лошадей догнала нас и, поровнявшись, начала обходить.
Наш возница, наверное, и не обратил бы на это внимания, но, как я догадался, его вывел из состояния равнодушия мальчишка — худой, маленький в огромной, как тогда говорили, собачьей шапке, накрывшей всю его голову так, что глаз не было видно и в огромных, разного цвета валенках, пошитых и, видно, здорово стоптанных, к которым были прикручены коньки. Валенки были очень большие, а коньки, видно «снегурки», маленькие, такие, что их не было видно, и если бы не веревки, которыми были обмотаны ступни валенок, да коротенькие палки, которыми эти веревки были затянуты, чтобы держать коньки, казалось бы, что у пацана нет коньков, а прицепившись к саням сзади железной крючковатой палкой, он едет за санями прямо на валенках. Этот пацан кричал, как только их сани поравнялись с нашими розвальнями: «Дяденька, дай прокачу-у!»
Этот задиристый крик, наверное, и пробудил нашего возницу. «Вре-ешь! Ну, врешь!» — совсем не глядя на обгоняющую нас пару, нараспев бурчал он и ёрзал на своём облучке, скользя и срываясь ногой, положенной боком. Наша тройка, к которой я уже потерял интерес, вдруг преобразилась. Лошади подобрались, а у коренника совсем перестала мотаться голова. Она вытянулась вперед, да так и остановилась, будто кто-то потянул ее вперед невидимой уздой. Пристяжные затопотали и я, все еще не веря в скорость, вдруг услышал участившийся дробный стук – это был топот наших лошадей
«Вр-ре-шь!» — продолжал рокотать наш кучер, и вот обе группы – пара и наша тройка движутся рядом, и никто не хочет уступать. Они уже не просто двигаются, они мчатся. Это доказывает глухой топот наших копыт по укатанному снегу и то, что Надя и Валя повернулись, съёжившись, в сторону и смотрят на наших соперников. Мальчишка перестал кричать и молча мчится, держась своим крючком за сани.
Две упряжки мчались ровно. Наш кучер даже не смотрел в сторону соперников, а просто замолчал и, растопырив локти, шевелил ими, как будто хотел что-то раздвинуть. В этот момент мне так счастливо было мчаться быстро, да еще рядом с кем-то, что я и не подумал о гонках. Я мечтал о скорости и достиг ее. Но нашему кучеру теперь этого было мало. Зачем-то поправив шапку, которая, поёрзав, стала на прежнее место, проведя по щеке локтем, так как руки его были заняты натянутыми вожжами и ему пришлось шапкой и щекой дотягиваться до собственного локтя, в такой неестественноё позе потеревшись, он вдруг заголосил по-бабьи, будто завизжал: «Мамочки-и-и!» И вдруг мужским голосом: «Вре-ешь!». Не видел я, что он сделал. Нагнувшуюся шапку и трущуюся щеку видел, но больше ничего.
Я услышал, как дробный топот стал на мгновение громче, а потом вдруг пропал, и вместо него появились ритмические удары, похожие на стук сотен сапог, когда солдаты идут в ногу. Коренник уже несся. Он совсем вытянулся, чуть запрокинув голову, будто на его голове были большие рога и был он весь устремлен от нас куда-то. Я понял это потому, что ленты, красные и белые, которыми была оплетена дуга, и из-за которых я не мог раньше хорошо видеть голову коренника, эти ленты оттянулись назад и капризно вертелись, а две из них вообще закинулись вверх и обернулись вокруг дуги. Ветер, этот встречный ветер стал так силен, что поднял ленты и открыл мне голову коренника.
Пристяжные, будто сговорившись, стукали копытами по земле почти одновременно, только казалось, что они обе слепые на один глаз, так неестественно той стороной морды, которая была ближе к кореннику, они повернулись вперед, отвернувши головы от коренника в стороны, будто хотели оторваться от него и помчаться в стороны, но вместе с тем они мчались вперед, тянули нас и были с коренником в удивительной слитности. Из-под копыт их летел снег, залепляя руки и лицо кучера и обдавая нас маленькими снежными лепешками.
Мы держались за грядки, потому что наши розвальни кидало из стороны в сторону, как кидало ту тройку, что вначале промчалась мимо нас и которой я завидовал.
«Мамочки-и!» — взвизгивал кучер. Вдруг я услышал знакомое: «Дяденька, дай прокачу!» Обернувшись, я увидел, что тройка наша оставила пару далеко позади, и пацан в собачьей шапке и огромных разных валенках прицепился своей железной палкой к нашим розвальням и кричит свое «прокачу» тем, кто сидит в отставших санях, и с которыми он только что смеялся над нами.
Мы летели. Теперь уже сомнений не было. Летели. Вокруг розвальней, как эхо от дробного стука копыт пролетали колючки снега и все время вилась снежная дымка. По левую руку уже кончался бульвар. Кучер натянул вожжи, стараясь придержать лошадей. Я счастливо и вопросительно смотрел на Надю, разделяет ли она со мной радость этих гонок. Надя и Валя, тоже разгоряченные этой ездой, плотнее усаживались в сено и старались усадить меня. Я был так доволен, что даже не сопротивлялся.
Было катанье, были гонки, и мы победили. Я даже дружелюбно поглядывал на пацана в собачьей шапке, который, мягко подпрыгивая на бугорках, мчался вместе с нами; он тоже разделял эту радость езды и, значит, понимал меня.
Возница сдерживал лошадей. Но не тут-то было. Тот коренник, который так лениво начал езду и который в самый нужный момент еще оправлялся, теперь никак не хотел прекратить этот бег. Вот уже и конец бульвара, и наш кучер, встав обеими ногами на дно розвальней, упершись коленями в облучок, изо всей, казалось, силы натянул вожжи, а лошади все летели. Вот уже кончился бульвар и начался широченный спуск к мосту через Архиерейский пруд, а их никак не остановить.
Мы схватились друг за друга, глядя кругом и на кучера, зная, что место, где все разворачиваются в обратную сторону к Преображенской Заставе, давно миновало. Надо было повернуть, а мы не повернули.
«Держись!» — крикнул кучер и провел рукавицей, будто заставляя нас куда-то спуститься. Мы, притиснувшись друг к другу, вжались в дно саней, судорожно держась за грядки и друг за друга. Казалось, что наступает расплата за ту радость, которую мы получили.
«Держи-и-ись!» Нас прижало к правой стороне саней, где я не то сидел на корточках, не то лежал. Надю и Валю повалило на меня, какая-то сила сжала нас, и «держи-сь!», и дробот копыт — все смешалось. Я только видел перед собой деревянную стойку розвальней, оплетенную несколькими полосками мочала. За стойкой, за мочалом, прямо у моего носа мчалась снежная полоса дороги, такая твердая и стремительная, что, казалось, меня еще чуть сдавят, и я буду царапать носом эту быстро мчащуюся корку.
Что-то загремело. Нас кинуло влево, затем опять прижало, и я вдруг почувствовал, что меня никуда не прижимает. Валя крестилась. Надя вытаскивала меня из угл а розвальней и кутала в шубу. Кучер, тряхнув завязками на шапке, повернул к нам лицо. Его усы, брови и края шапки все было в инее, и под белыми усами открылись зубы, и зубы проговорили: «Что? Боязно? Ничего, милаи, Масляна, она на то и Масляна! Не бойсь!»
Лошади, повернув по крутому спуску и прокатив полозьями розвальней через трамвайные пути, где полозья на мгновение застряли в рельсах (поэтому-то нас и кинуло), развернулись и понеслись в обратном направлении. Снова слева от нас замелькали деревья и выложенные сверху подушками снега кустарники бульвара. Мы мчались.
Далеко сзади было видно, как прилаживает конек к валенку пацан в собачьей шапке (его оторвало на повороте), а впереди нас была видна тройка, которая еще в начале нашей поездки обогнала нас и которую теперь, судя по тому азарту, что напал на коренника, мы нагоняли.
Теперь уже все мы повернулись лицом вперед и, держа руки над грядками саней, на всякий случай, смотрели туда, где все крупнее и крупнее, приближаясь к нам, виднелась эта, когда-то лихо обогнавшая нас тройка.
Чтобы лучше видеть, я встал и схватился за локоть кучера. Схватился и испугался, а вдруг он будет ругаться. Но он не только не обругал, а, наоборот, направив на меня заиндевевшие усы, а глазами все глядя вперед, крикнул: «Как звать-то?» Я ожидал ругани, крика, слов бранных, но не этого и, держась за его локоть, и глядя ему в усы, молчал. Усы зашевелились, и опять из-под них вылезли зубы, такие белые и веселые: «Звать-то тебя как, спрашиваю?» Я не знал, как сказать. Юра? — Как-то очень уютно, по-домашнему. Юрка? — Меня так звали только мальчишки, а дома — никогда. Юрочка? — Вообще неприятно, потому что так звали меня все, и именно поэтому мне это не нравилось.
Глядя в усы и зубы, я сказал, как на экзамене или как говорят на причастии: «Георгий!» — и сам понял, как это неуместно и неловко.
Кучер только этого и ждал. Он повернул усы к лошадям и еще больше подставляя мне локоть, крикнул: «Держись, Егор!» И снова я услышал ритмичный, дробный топот, и снова пристяжные развернули головы в стороны, как будто стараясь оторваться, но теперь это было еще и потому, что управлял лошадьми ясам. Моя рука уверенно лежала на локте кучера, и ей передавалось то пульсирующее подергивание, что шло от лошадиных морд через натянутые вожжи.
Мы нагнали тройку как раз в том месте, где кончался бульвар и где она в начале катанья проскользнула перед нами. Перегнали и понеслись по бульвару еще раз. На этот раз мы неслись по-настоящему, уверенно, как победители, как имеющие право на весь бульвар.
Мчались кони, розвальни кидало короткими толчками влево-вправо, моя рука, чуть оторвавшись от локтя кучера на одном из ухабов, перебралась вперед и теперь лежала на самой вожже, и кучер видел это и не возражал. Мы сделали еще один разворот через трамвайные пути и проехали мимо парня в разных валенках, который, видно, так и не поправил конек и хмуро смотрел на нас из-под шапки, доехали до Заставы и повернули вправо на Вал к нашему дому.
Подъезжая к дому, лошади сами замедлили бег и перешли на трусцу, а совсем близко от дома, где я уже видел маму, стоящую у калитки, кучер, чуть сдвинув в мою сторону вожжи, сказал: «Ну, Егор, приехали!». Я понял это движение и, схватившись за вожжи обеими руками, натянул их и закричал: «Приехали, милаи!». И даже, когда тройка уже остановилась, я все не хотел бросать вожжи и стоял у облучка счастливый бескрайним детским счастьем.
«Юрочка! Посмотри на себя!». Я только что был грубым Егором, ловко ладящим с лошадьми, и вдруг опять стал этим ненавистным мне Юрочкой. Вся моя шапка, весь мой шарф, обернутый вокруг шеи, были сплошь усыпаны толстым слоем снега. Я увидел себя, в инее, с вожжами в руках, близко к лошадиным крупам: я все-таки мужик, Егор.
Это была моя настоящая и, как потом оказалось, единственная веселая масленица. Были масленицы, были блины, но не было катанья, не было этих сложившихся вместе радостей и уже не было упоительного отрочества.
XIII. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Зима. Натопили круглую железную печку. Тепло. Все дома.
Вечером, после скудного чая, когда немного посидели и пришло время идти спать, началось то главное, что определяло весь этот день как часть Великого поста, предшествующего Пасхе. Начался обряд взаимного прощения.
Мне было интересно подсматривать, как в течение дня все родные и знакомые, расставаясь, просили друг у друга прощения. Многие специально приходили к нам и, посидев, крестились на киот и, обратившись к маме или сестре, говорили: «Простите меня, грешную!» А те в свою очередь отвечали: «Бог простит, и вы меня простите!» Отцу они кланялись особо и просили простить и молиться за них, и он тоже просил их простить его.
Когда настал вечер, мне стало неловко. Не столько неловко самому просить прощения, сколько слышать, как взрослый человек просит тебя, маленького, простить его. Поэтому я еще днем, чувствуя, что очередные посетители уходят, и приближается так смущающий меня момент, убегал куда-нибудь. Или в чулан, который был моей спальней или, наспех одевшись, погулять или, спрятав пальто и шапку, прятался в кухне за печкой, ожидая, пока не хлопнет дверь за ушедшими.
И вот сейчас, вечером, после чая настал тот самый трудный момент. Я подошел к маме и сказал «спокойной ночи», пряча свое лицо и, конечно услышал: «А ты помнишь, какой сегодня день?». Я молчал. «Что надо сказать?». Я, все так же глядя в сторону, тихо, еле слышно сказал: «Прости меня!». И мама, поцеловав меня, обняла: «Ну вот, и молодец. И ты прости меня, если в чем-то провинилась». Так же я подходил ко всем и, сказав каждому эту трудную фразу, слышал и от сестры, и от всех, кто был тут, и от отца — «и ты прости меня, прости, если в чем-то вольно или невольно виноват перед тобой».
Неловко мне было уходить из комнаты в свой чулан, оставляя взрослых виноватыми передо мной. Раздевался я с тем же чувством неловкости, что вот взрослые, а просят прощения. Накрывшись одеялом, закричал: «Я лег!» Открылась дверь, и в чулан вошла мама. Подоткнув, по своей привычке, мне под бока и под ноги одеяло, она подошла к щели, которую называли окном, задернула занавеску, перекрестилась на иконку в углу, потушила свет и в темноте подошла ко мне, поцеловала, погладила голову сверху от макушки вниз ко лбу несколько раз шершавой рукой и шепотом проговорила: «Вот и молодец, вот и умница. Спи с Богом». И вышла.
Дверь, пискнув, закрылась, и только, как кусок яркой бумаги, виднелся из-под нее свет от лампы, горящей в соседней комнате. Задвигались стулья. Послышалось шепот молитвы и все стихающие шаги. Засыпал я счастливо. Было чувство мира и успокоения, будто сделал что-то очень хорошее и можешь спокойно и легко спать. Такое чувство бывает редко. Но что оно было у меня в то трудное воскресенье и что такое чувство есть вообще, я хорошо и твердо знаю.
XIV. ПОСТ
Время ограничений, смирения, покаяния. Только теперь понимаю, что это время для самоусовершенствования. Отказ от соблазна, будь то кусок мяса, сигарета или компания друзей с легким ужином и бокалом вина, этот отказ, совершенный по своей воле, есть победа над чревоугодником, гулякой или баловнем в себе. Это победа над собой. А если такая победа совершается неоднократно, значит, человек становится регулировщиком, руководителем своих инстинктов и прихотей, а не рабом их, каковым он является постоянно.
Я просыпаюсь утром и чувствую непривычный запах. Пахнет чем-то знакомым и вкусным. Вспоминаю — ведь сегодня начало поста, значит, будет много новых, вкусных, давно забытых блюд. Будет тертая редька, залитая подсолнечным маслом, будут хрустящие от того же масла, поджаренные в нем макароны, будет вкусный грибной суп, солянка из кабачков, рисовая, ячневая, пшенная запеканки.
Я вскакиваю, одеваюсь, бегу умываться и прибегаю в комнату — самую большую из трех — площадью метров в двенадцать-четырнадцать. Она называлась столовая. В столовой на столе уже стояли грибы, соленые огурцы, маринованная капуста, вареная картошка, которую можно было макать в соль и потом откусывать от нее куски и есть вместе с огурцами.
Отца не было. Мама и сестра были уже дома — они ходили в церковь к ранней обедне. Они идут из кухни, я говорю им «доброе утро» и по привычке поворачиваюсь в угол, чтобы, перекрестившись вместе со всеми, сесть за стол с постными новинками. Но никто из родных за стол не садится. Все ждут. И я вижу, как на моих глазах начинается пост с его уставами, самодисциплиной и ограничениями. И с его специальными молитвами.
Из всех молитв великопостная молитва Ефрема Сирина для меня наиболее впечатляюща. Она построена на чередовании произносимых слов и действия (поклонов), и ее лаконичность, насыщенность выглядят особенно ясно и убеждающе. Состоит она из трех частей. По прочтении каждой из частей кладется земной поклон. Я вспомнил это, когда мама начала ее читать:
«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми».
Мы все делали земной поклон, и я старался дотронуться лбом пола. Встав и дождавшись, когда встанут все, выдержав паузу, нужную, наверное, для особой сосредоточенности, мама продолжала:
«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми , рабу Твоему».
Земной поклон и опять после поклона и паузы:
«Ей, Господи, Царю! Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».
И еще земной поклон. После этого каждым читается короткая молитва с поясными поклонами. Стоит тишина. Затем молитва читается вся без перерывов и поклонов, и только по прочтении ее делается один, уже последний поклон. На этом великопостная молитва заканчивается.
В храме, во время службы эта молитва с ее поклонами творится несколько раз. Но если не ходишь в храм, то читать ее с соблюдением правил нужно утором и вечером, Вот уже можно делать выводы из этой великопостной системы: ограничения в пище, исключающие все мясное, рыбное, все молочное и все, что связано с яйцами, земные поклоны утром и вечером — вот только тот физический режим, который человеку надлежит соблюдать в течение полусотни (сорока девяти) дней.
Мама закончила молитву, и мы все сели за стол. Несмотря на то, что постом мама, сестра и родные ходили в церковь часто — раза два-три в неделю, и там они клали поклоны много раз, дома они утром и вечером также творили эту молитву.
Постом полагалось говеть. Для меня, когда я был маленьким, говение состояло в том, что накануне причащения я не ел ничего скоромного, вечером шел к вечерне, утором в день причастия я ничего не ел и шел к обедне. Обедню я должен был выстоять до конца всю, с многочисленными поклонами, а когда стал побольше — с исповедью. Причастившись, я стоял до конца службы, принимая, как все причастники, поздравления: «С принятием Святых Таин!» Потом я шел домой, где к обеду было специально приготовлено какое-нибудь лакомство. Это были или орехи, или фрукты, или какой-нибудь вкусный кисель, или желе.
Но вот наступала Страстная неделя, последняя неделя поста. Неделя Страстей Господних.
В эти дни поста, когда утром сильно проголодавшийся человек съедает только одну-две картофелины, днем — винегрет, а вечером — чай с куском хлеба, я понял, как важно уметь поститься, как важно уметь отказать себе во вкусном, в количестве еды, в лакомстве. Как важно уметь владеть собой и быть хозяином своих желаний. А ведь все мои близкие постились не так как я, а почти два месяца, отказывая себе в соблазнах ежедневно. Чувство человека, уважающего себя за победу над собой (а я понял, что победа над собой — победа самая дорогая), растет и укрепляется изо дня в день, потому что соблазнов каждый день очень много.
В нашей семье особенно было видно, как люди избегают соблазнов. У меня был детекторный приемник, и я часто слушал передачи станции имени Коминтерна. Но постом этого делать было нельзя: музыка не должна была звучать. Не только посещение театра или кино (об этом и говорить нечего), а участие в разговоре, где был услышан анекдот или что-то веселое, было грехом.
Тишина, молчание, сосредоточенность царили в доме постом. Даже лишние разговоры были неуместны. Простая праздная болтовня порицалась.
Постом у меня всегда были лучшие отметки — общая сосредоточенность помогала делать уроки.
Пост. И как все в Православии — без послаблений. Если уж молиться, то покаянно, если в храме, то всю службу стоя, а то и стоя на коленях, а не так как там католики или лютеране – короткая служба, сидя попели хором под орган, да еще с текстом в руках — и вся молитва!
Нет. Одеться в темное, на голову женщине темное, войти в храм смиренно, стоять всю службу — два-три часа не двигаясь, крестное знамение класть истово, а не небрежно, к святым иконам обязательно приложиться, и непременно к кресту, даваемому в конце долгой службы священником. Стоять к кресту, дожидаясь пока толпа впереди тебя пройдет, а многие, приложившись, еще и беседуют с батюшкой о сокровенном, а ты жди, смиряйся, терпи. А это еще час.
Дома, в пост — книги только священные — Псалтырь или Четьи Минеи.
Накануне причастия, вечером, — исповедь. Исповеди я боялся особенно, потому что знал, если что утаишь от священника — Бог накажет. И не столько боялся утаить — куда там таить или обманывать! Об этом и речи быть не могло, а боялся забыть какой-нибудь грех и не покаяться в нем, а потом, после исповеди, вспомнить и думать, что Бог подумает, что ты не забыл, а утаил!
И вот перед исповедью стоишь в храме и перебираешь свои грехи: тогда-то маме сказал неправду, а тогда обманул учительницу, а было так, что не сделал уроков и боялся идти в школу, а маме сказал, что голова болит, и она сказала: «Ну и не ходи сегодня в школу больной!» Обманул! А как в этом сознаться? И как вспомнить все, что совершил дурного и не забыть сказать об этом на исповеди. И не знаешь, к какому священнику попадешь. Может быть, добрый и чуткий, и услышит, и поймет, а может быть строгий, суровый, ему-то и сказать страшно — не простит. Дрожь перед исповедью лихорадочная.
И каково же было счастье, когда после многочисленных сквозь слезы «грешен!» вдруг слышишь: «Наклони голову!» И чувствуешь на затылке склоненной головы холодную ткань епитрахили и слова разрешительной молитвы. Приложившись к Кресту и Евангелию, лежащим на аналое (встав на цыпочки и еле дотянувшись), ты обновленный со счастливыми глазами прощеного человека идешь к маме и она, вдвойне счастливая твоим счастьем, обнимает тебя. Значит, все прощено. Значит, не такие страшные эти грехи. Или Бог так великодушен и добр к тебе, что сегодня простил тебя, твои обманы, твою ложь – твои такие тяжкие грехи.
Но всё это еще подготовка к тому главному, во имя чего и говение, и исповедь, и ежедневные посещения храма – к причастию, которое будет завтра утром. А сегодня вечером мама, уложив тебя в постель, еще читает что-то тебе и ты, слушая, засыпаешь, хотя и долетают до тебя будто издалека слова матери: «яже словом или делом, ведением или неведением».
Рано утром тебя поднимают. Мама уже одета, собрана. Ты особо тщательно умываешься и одеваешься. Сегодня до причастия — ни есть, ни пить. Мама нарочно ведет меня к ранней обедне — чтобы не так долго голодать. В еще только устоявшемся рассвете, шлепая по лужам, стекающим из-под тающих сугробов, идем в храм.
Я мало слушал службу. Слушал, но не слышал. А все больше смотрел. И каждое появление священника или дьякона или любое открывание Царских Врат или боковых дверей в алтарь я видел как подготовку к главному – причастию. Долго пели, кадили, потом — вот оно! — вынесли чашу, но тут же унесли опять в алтарь. И снова поют, читают и кадят. И вот, наконец, мама двумя руками взяв меня за плечи, ведет вперед и ставит около самого амвона.
Я и мама уже в толпе. Безмолвной, неколебимой. Какая-то старуха в белом платочке на морщинистом маленьком лице пробовала протиснуться вперед, но один поворот, даже одно вздрогнувшее движение нескольких голов в ее сторону достаточно для того, чтобы она замерла и окаменела. Вдруг смолкло пение, ничего не слышно из алтаря и после долгого молчания кто-то начинает читать. После возгласов, каждения, двухклиросного пения это чтение неожиданно сухо и напряженно. Кажется, вообще вся служба прекратилась, и только остался один чтец с бесцветным невыразительным бормотанием.
Мы молча стоим и только еле слышен голос мамы: «Сложишь руки на груди и скажешь свое полное имя. Полное имя — Георгий!». Эта подсказка лишняя, и мне кажется даже обидной. Я уже причащался и все знаю. И подсказывать мне, бывалому, да еще в такой момент — не надо Что я, маленький?
Чтение прекратилось, и настала тишина. Тишина, только потрескивают свечи в сдавленной безмолвной толпе. Все ждут.
И поэтому так резко и, кажется, очень громко движется на кольцах завеса за Царскими вратами, и в той же сдавленной тишине открываются створки врат, и там — священник с Чашей в руках. Он движется к нам и, остановившись, читает последнюю перед причастием и, кажется теперь, главную молитву: «Верую, Господи, и исповедую… Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими… Да не в суд или во осуждение будет мне причащение…»
Молитва кончилась. Под неожиданно запевший хор люди выдавливаются к Чаше. Передо мной высокая женщина в мохнатом пальто. Из-за нее я ничего не вижу, и потому, когда она отошла, я вдруг увидел перед собой низ Чаши — широкое, выпуклое, как перевернутая тарелка основание Чаши с инкрустациями — резьбой и камнями и услышал, будто сквозь вату: «Причащается раб Божий…»
А я все смотрел на так неожиданно оказавшееся передо мной сверкание — Чаша, риза священника, орарь дьякона и маленькая красная салфетка — плат, которую положили под мой подбородок. Смотрел и молчал от этой неожиданно близкой встречи.
«Георгий», — подсказала сзади стоящая мама. «Георгий!», — повторил я и открыл рот. Сладкое и теплое легло мне в рот. Я проглотил и, как и полагается, поцеловал ту самую ножку Чаши, которая так засверкала передо мной после спины в лохматом пальто.
Сзади, с боков меня уже подталкивали, и я, спустившись со ступеньки амвона, попал к столику, на котором стояли красивые ковшики с большой, горизонтальной, как полка, ручкой. В этом ковшике была теплая вода, чуть подкрашенная вином. Мне дали кусок мягкой просвирки и такой ковшик с «запивкой». И мне, голодному со вчерашнего дня, показалось это таким вкусным, что я не мог оторваться. Мне налили еще, и дали еще просвирку, и я ел и пил этот пресный хлеб с теплой розоватой водой и наслаждался.
Меня трогали за локти, за спину и поздравляли: «С принятием святых Тайн!». Я знал, что надо ответить «спасибо», но отвечал, жуя и прихлебывая. Наконец, оторвавшись от ковшика, я шагнул дальше и увидел мать. Она стояла как-то согнувшись, смотрела на меня и плакала. Улыбалась мне и плакала. Я не понимал тогда ее. Я хотел домой — поесть, пусть и постной еды, побегать, почитать, наконец, мою книжку, а не молитвенник. Я чувствовал себя свободным, совершившим трудное дело.
Сейчас я ее понимаю. Она знала, что-то, что она заставила меня сделать — говеть и причащаться, для меня, живущего в Москве в тревожных 30-х, дальше делать будет все труднее и труднее, если не сказать, страшнее. Во всяком случае, опаснее. А для нее это было тем главным, необходимым, очищающим актом в жизни, без которого я переставал быть верующим человеком и становился серым невеждой, неодухотворенным, почти животным.
Все ниже спускались тучи над отцом и дедом. Обстановка вокруг была враждебная. На нас показывали пальцами и гоготали. И для матери это моё причащение было, может быть, и последним. А кто знает, может быть, в следующий раз я сам не захочу. Взбунтую и не пойду? И счастье человека, выполнившего долг, видящего в сыне пока еще послушное, отзывчивое существо. Счастье от сохранения в семье старинных устоев, несмотря на все препоны. Вот почему она плакала счастливыми, удовлетворенными слезами.
XV. КУЛИЧИ
В нашей семье исстари сложилась традиция большого празднования Пасхи.
В Великий Четверг — чтение двенадцати Евангелий, после которого возвращались домой, бережно неся в бумажном фонарике трепетный огонек свечи; в Пятницу — вынос плащаницы и чин погребения; в Субботу — полунощница, крестный ход, сопровождаемый ликующим перезвоном колоколов, мерцанием сотен свечей и победными возгласами: «Христос воскресе!» И мы вторим: «Воистину воскресе!»
Перед Страстной неделей начиналась уборка дома. Мыли и чистили все. Кажется, никогда с такой тщательностью не начищали каждый уголок, как под Пасху. На мою долю выпадало чаще ходить за водой на угловую колонку. Ходить я не любил, потому что там мог встретить ребят, которые хоть и учились со мной, и вместе списывали, и били стэп на переменках на каменном полу лестничной клетки, все же не упускали случая кинуть: «У попа была собака». Я не боялся — я был драчун, но самому своим появлением вызывать такие сцены не хотелось. Лучше посидеть дома и почитать или попилить, попаять, зарывшись в какую-нибудь интересную схему.
Если я не носил воду и уже сделал уроки, мне поручали чистить серебряные вещи. Серебра было немного, хоть и говорилось — се-ре-бро, как с большой буквы.
— Ты уроки сделал? Начинай чистить серебро.
На стол ставилась сахарница, солонка на шариках вместо ножек и полдюжины чайных ложек. Столового серебра не было. Было четыре столовых ложки, старых, от многократного использования объеденных с одного острого края. К серебру прибавлялась снятая с киота лампадка. Я чистил их нашатырным спиртом и зубным порошком. Мне нравилось видеть, как чернеет порошок и светлеет металл. Эта работа была грязная, мужская, и я был счастлив, что ее держат за мной.
Но самое интересное, конечно, это приготовление пасхального стола. Смотреть, как красят яйца, делают пасхи — ванильную, сливочную, шоколадную, ореховую, сметанную.
Самое же большое священнодействие совершалось над куличами. Сложнейшие рецепты, каждый раз после многочисленных переговоров со знакомыми несколько усовершенствованные и потому опять вызывающие волнения хозяйки. Сбивать желтки, составлять рецепт теста, и потом месить. Месить нужно до тех пор, пока тесто не начнет отлипать от рук, и если его потянуть пятерней — оно должно тянуться, как кружево. Месишь так, что уже нет сил, болит спина, не сгибаются руки, а к рукам еще не пристает, да еще и липнет так, что, кажется, никогда не начнет отлипать.
А тесто все не меняется. Опять, в который раз, берется мама. Я уже сделал уроки, скоро ужинать, месили целый день. И вот мама зовет: «Юр! Посмотри!» И, действительно, совсем недавно опускали руку в это тесто и не знали, как его от пальцев и от ладоней отодрать. Теперь опускаешь в него руку, а оно, как резиновое, просто натягивается внутрь и к руке не пристает. Только пальцы блестят от масла. Мама защипывает пятерней тесто и тянет его. Оно тянется так, будто сейчас лопнет, тянется, действительно, как кружево, но кружево очень старое, потому что рвется, ползет и увеличивает дырки на глазах. Так и видишь старое бабушкино кружево, долго лежавшее в сундуке, когда-то белое, теперь от времени пожелтевшее, расползшееся на глазах. Кружево старинное, отделанное камнями-изюминками.
Мама делит тесто (только бы не застудить его), кладет в формы, тщательно смазанные внутри русским маслом, и ставит, хорошо укутав, — пусть всходит.
Я то и дело бегаю за водой и ставлю на керосинки чайник и кастрюли. Приготовление стола — это бесконечное мытье. Сбивали желтки — мыть миску, ложки. Мешали тесто — мыть макитру. И надо носить, носить и греть, греть.
Теперь остается ждать. Когда месишь, все зависит от тебя. Еще усилие, и тесто готово. А вот уж когда поставили всходить, тут уж хозяйка бессильна.
На другой день, в среду, куличи пекутся, обливаются сахарной кашицей и торжественно ставятся на тарелки или блюда.
Затем красили яйца. Красота, яркость пасхальных яиц были неописуемыми. Специальной краски не было, и яйца красили, отваривая их с луковой шелухой. В зависимости от сорта лука и от длительности варения получались цвета — от кремового до коричневого. Самой интересной и непредсказуемой по результату была варка яиц, завернутых в связку – «пасму» шерстяных цветных ниток или линяющих лоскутков материи, задолго до этого собираемых и хранимых. Многие (у нас в семье тоже) расписывали каждое яйцо тонкой кисточкой, рисуя сюжеты — от евангельских до сказочных. Яички — символ жизни, раскладывали на блюдо вокруг ярко-зеленой, веселой щетки проросшего овса, который высевали заранее, на четвертой-пятой неделе.
Пасхи, куличи, яйца — все готово, надо святить.
Меня до сих пор умиляет этот старинный русский обряд, когда люди — в большинстве, женщины, главным образом, пожилые, надев на голову чистый, праздничный платок, и, обернув в чистые белые платки пасхи и куличи, торжественно идут в храм — святить. Сотни пасх, куличей, обложенных цветными яйцами. А на кулич-то нет-нет, да и воткнет какая-нибудь бойкая бабушка яркий бумажный цветок, чтоб уж совсем было празднично и красиво. И стоят около церковной паперти или в церковном дворе длинные столы с такой русской пестротой, что аж рябит в глазах. Вот они — начала Палеха, Жостова, вот на чем воспитывался Кустодиев.
Короткая молитва. Летят брызги святой воды. Летят на куличи и на людей. Где-то на морщинистой руке или щеке чуть похолодело, значит, попала капля, и значит, обряд освещения совершен. Это уже не просто еда — куличи и яйца. Это — яства, и теперь они будут поданы на стол не как пища, а как дар Божий.
И этот же кулек несется по обратной дороге с такой бережливостью и трепетностью! Дома это всё ставится в передний угол, и хранится уже не как дело рук человека — об этом уже забыли, а как что-то принесенное в этот дом, как великий дар.
И есть-то это все будут, не наедаясь, а прикасаясь, отведывая, благословясь, как приобщаясь.
XVI. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР
Был обычный учебный день. Так не хотелось вставать, идти к колонке за водой для самовара и для умывания, а потом еще предстоял далекий путь в школу.
За двойными запотевшими стеклами на подоконье уже лежал снежок, и мама, провожая меня, натянула на меня обновку — мое пальто еще с прошлого года, но перелицованное и расставленное. Петли были заново прорезаны и обметаны, но зато старые петли, которые перешли на внутреннюю полу, хоть и были мамой тщательно зашиты, но были видны, и мне было неловко.
В школу надо было идти по длинным окраинным улицам мимо глухих заборов с лающими собаками, которых хотелось подразнить, мимо редких чугунных колонок на перекрестках, куда сходились близ живущие с ведрами за водой, по еще не замерзшим глинистым скользким буграм, через Архиерейский пруд.
Пруд надо было обходить далеко. Вот уже несколько лет, как говорили, что проложат мостик через узкую его часть, но уже 1932-й год, а мостика нет, и мы, школьники, ждем, когда пруд замерзнет, чтобы ходить напрямую — по льду. Сегодня пруд покрылся ледяной корочкой, но по ней еще нельзя ходить даже сорвиголовам.
Зато какое удовольствие взять камень или гладкий кусок кирпича, присев, с размаха пустить его по плоскости льда и слушать, как он, скользя, свистит и свиристит, а ледяная пленка, как огромная мембрана отзывается на этот звук и кажется, что на движение камешка откликается весь пруд.
Был урок математики, которую мы все почему-то не любили, но зато любили Васмиха — педагога Василия Михайловича Ясковского, невысокого, с круглой, как мяч, головой, увенчанной седым бобриком. Он шмыгал красноватым курносым носом и вел занятия с прибаутками: «Матвеев, ну, ползи к доске! Цветкова, пойди, намочи тряпку, только не ходи домой!» И все иксы и дроби становились не такими скучными с таким васмиховским гарниром.
Вошла Ольга Ивановна, физичка, наш классный руководитель и сказала, что на большой перемене всем надо выстроиться в коридоре — приехала комиссия из РОНО и будет осмотр.
У наших ребят, живших в старых домах Преображенки и Черкизова, не все было идеально чисто, и проверки волос, рук, шеи были явлением обычным. Поэтому и объявление Ольги Ивановны было заурядным фактом, просто портившим перемену. На большой перемене мы всегда собирались на лестничной площадке, пол которой был цементным, и Соломон Розенцвайг учил нас, мальчишек, отбивать чечетку.
Прозвенел звонок, и, толкая Василия Михайловича, мы бросились в коридор, где Ольга Ивановна и пионервожатая нас уже ждали. Построились.
Две шеренги учеников заняли весь длинный коридор школы. Учителя и вожатые направились в конец коридора, где стояло несколько незнакомых людей вместе с директором, высоким, лысеющим и располневшим Гольдманом. Вдруг вожатые направились обратно к линиям и скомандовали — мальчикам снять рубашки. И это не было новостью, хотя раньше мы никогда не раздевались, просто часто на уроке физкультуры, у нас отворачивали воротнички, особенно у подозрительных.
Я был всегда умытым и аккуратным, поэтому проверки обходили меня, и я относился к ним равнодушно. И тут я, как и все, стянул с себя рубашку, и — как и все, зажал ее между колен; на полу грязно, а подоконник далеко, да и сопрут.
Комиссия с Гольдманом, разделившись на две части по двум нашим шеренгам, приближалась. Ольга Ивановна выступила вперед, как бы представляя наш класс. Ребята хихикали и ёжились. Было действительно холодно. Неожиданно Ольга Ивановна замерла. Она смотрела на меня. Вернее, не на меня, а на мою грудь. На ней виднелся висящий на цепочке крестик. Она хотела было спрятать меня за шеренгу, или снять крестик или даже закрыть меня собой, но в это время комиссия уже приблизилась и, увидав оцепенение классного руководителя, тоже уставилась на меня.
Раздеваясь, я забыл, что на мне крестик, хотя в других случаях всегда помнил о нем и осторожно его снимал. Видя Ольгу Ивановну и всю комиссию, прекратившую осмотр шеренг и плотно ставшую передо мной, и чувствуя, как все ребята, сломав шеренги, толпятся вокруг, я понял, что собирается гроза. Теперь, когда все собрались и уставились на меня, как на диво, снимать крестик или прятать его было стыдно. И чем больше в смешках, шепоте, дыхании окружающих зрел взрыв, тем сильнее во мне рождалось желание устоять, выдержать, вынести это навалившееся на меня испытание.
Прямо против меня над пионервожатой стоял Гольдман. Несмотря на холод, он покраснел, и по нему текли капельки пота. Он как-то странно то открывал, то кривил рот, будто хотел что-то сказать, и глаза его бегали от меня к Ольге Ивановне и обратно. Я чувствовал, что я очень замерз, меня лихорадило и от холода и от напряжения. Я стоял, упершись глазами в пол, глядя на туфель Ольги Ивановны со стоптанным низким каблуком, и только ушами воспринимал окружающее. Из всего детского шипящего гомона я различал: «Золотой!», «А цепочка тоже?», «Какой худенький!», «Сейчас заплачет!»
Я слышал и голоса комиссии. Вся комиссия вместо того, чтобы наброситься на меня со знакомыми мне криками, которые я уже неоднократно слышал у себя в переулке — «поповский сын!», «мало вас били!», «буржуй!», «лишенец!», и просто «долой!», я слышал резкие, едкие слова в адрес бедного Гольдмана. Мне стало его жалко.
Он был так растерян, что не мог говорить, а если говорил, то одними губами. До меня долетало: «Как учится? Где вы были?» Простые вопросы, но в ответах учителей уже разворачивался политический криминал: отец — служитель культа, служит до сих пор, мальчик — не пионер, ответ Ольги Ивановны: «Учится ровно». И вдруг раздался вопрос: «Есть у него друзья?»
И наступила тишина.
Я ждал, что Володька Аксенов или Фима Василевский ответят. Или, может быть, Лена Цветкова, с которой мы ходили вместе домой из школы каждый день и которая была раза два у меня дома вместе с другими ребятами.
Я напряженно слушал. Нет, никто не рискнул назваться моим другом. И после этой такой томительной тишины голос из комиссии: «Надо обсудить, товарищ Гольдман!», и дальше: «А у него есть мать? Надо вызвать мать!». Вызов в школу отца-священника был бы непростительной политической ошибкой. «Вызвать мать и поговорить с ней!». Комиссия не дошла до конца шеренги и повернула обратно.
До меня еще доносилось: «пропаганда с золотыми крестами… директор… советская школа».
Ольга Ивановна, опомнившись, скомандовала: «Одевайтесь! В класс!».
Я стоял и больше всего боялся одного — как же сказать об этом дома отцу? Сколько я слышал оскорблений в его адрес. Сколько раз и я, и мать видели, как отца толкали, как в него плевали на улице и в трамвае. Для себя я понимал одно — своей лаской смягчить эти удары, своей учебой стараться не огорчать его. И вот, на же!. Теперь такое же оскорбление принесу ему и я.
Я поднял глаза. Ребята, одевшись, входили в класс и оглядывались на меня. В стороне стояли Лена Цветкова и Ефим Василевский. Я почувствовал, что замерз и вспомнил о зажатой между коленями рубашке. Одевшись, я оглянулся. Коридор был пуст. Из учительской раздавались голоса. У открытой двери в класс стояла Ольга Ивановна и, не глядя на меня, медлила — закрывать дверь или дождаться.
Кажется, я сделал шаг к двери. Не помню точно. Через некоторое время открыл глаза. Я лежал. Надо мной склонились Ольга Ивановна, Лена и Фима.
XVII.СТЕЖКИ И ГОДЫ
Стежок за стежком, узелок.
Вознесенский монастырь — это и усыпальница княгинь и цариц, и местопребывание будущих цариц перед венчанием, и, конечно, обитель монахинь-тружениц, слава о которых идет по всей земле. Это они дарят царям, храмам, знатным людям изделия, украшенные сказочной отделкой. Их выдумке, несказанной фантазии нет границ. Так во всей Руси и знают, если митра епископа, или праздничное облачение у духовенства, или необыкновенный оклад у иконы, или цветы, или невиданной отделки гирлянды из камней, золотых или серебряных тоньше волоса нитей — особенно красивы, — это «от Вознесения», а еще говорили «от Стародевичьего» — значит, сделано вознесенскими умелицами, творящих свои чудо-изделия между молитвами и иными послушаниями.
Стежок за стежком, узелок.
Нащупать, проколоть, натянуть, — трудилась в своей светелке княгиня Евдокия, готовя подарок мужу, князю Димитрию. Собрав в Москве князей и взяв с собой несколько воинов, он помолившись отправился в Троицкую обитель на поклон и беседу к игумену Сергию. Княгиня Евдокия, не перестававшая молиться об умудрении мужа, поднимающего руку на тьму-тьмущую алчных полчищ, ждала, боясь и предположить, что скажет преподобный Сергий — благословит или посоветует смириться и положиться на волю Божью, а, значит, быть может, на новое иго, разорение, надругания.
Стежок за стежком дошивала она задуманный ею нарукавник, поруч, который князь надел бы, случись поход.
Встретив его у Фроловских ворот, она удивилась перемене в князе. Он будто юношей стал, так озарили его встреча и беседа с мудрым старцем. Преподобный Сергий не только одобрил намерение князей, но и, помолившись, благословил их на эту святую битву. Больше того, благословляя, старец-игумен дал Димитрию помощников — иноков-богатырей Пересвета и Ослябю, которые владели мечом не хуже, чем сам князь, но еще были бы во весь поход и битву помощниками, несшими благословение мудрейшего Сергия.
И вот Димитрий уже берется за седло своего нетерпеливого гнедого, и Евдокия, поклонившись и перекрестив, надевает ему на руку вышитый ею поруч, чтобы помог, защитил, уберег дорогую руку смелого мужа. Видит она, как ловко сидит ее подарок на руке князя, как рука, обтянутая разукрашенной ею тканью, будто парит, когда князь, перекрестившись и надевши шлем, указывает огромному русскому войску двинуться.
Княгиня, глядя на этих воинов, сильных, смелых мужчин, готовых постоять за свою отчизну, понимала, что их жертва в этой битве за землю, за семью, за Русь, за веру — их жизнь. А что может дать она? Что она имеет, чтобы имело такую же цену? Любовь? Да, ее любовь к князю безгранична. Ее красота? Это не ее заслуга, и этим нечего гордиться. Но у нее есть вера, и есть умение. Она рукодельница. Ее фантазия, ее руки, ее пальцы делают чудеса. Скольких женщин, взрослых и юных, родных и приезжавших издалека, она обучила искусству рукоделия, но рукоделия особого, где во главе было не просто ловкое умение, а была бы вера, была бы озаренность, которая водила бы этими руками. Чтобы дело вершил не просто мастер, а тот, душа которого чиста, кто творит, пусть даже малое, но во имя большого, главного, высокого.
И княгиня, стоя в воротах Фроловой башни, дала обет. Если будет побеждена орда и если князю Бог сохранит жизнь, она воздвигнет храм и поставит монастырь. Женский. И насельниц этого монастыря она обучит тому умению, которым владеет сама, и той душевной устремленности, которая должна быть у подлинного русского рукодела.
Великая победа. Свершилось. Князь воротился живой. Нарукавник был смят, поцарапан, даже разорван, но цел, цел, как и князь. Душа княгини Евдокии ликовала. Ее, пусть малый, но все же вклад в подвиг мужа был совершен. Орнаменты и изящные кресты на поруче, будучи все время с князем, хранили его. В память победы на Куликовом поле Евдокия построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
В 1387 году был заложен монастырь у Флоровских ворот. Потом, когда внутри будет поставлен храм Вознесения, монастырь будет называться Вознесенским. Его юные насельницы под руководством княгини Евдокии (в 1407 году принявшей пострижение под именем Евфросинии) начали свой подвижнический труд, продолжавшийся более пятисот лет.
Стежок за стежком, узелок за узелком, натянуть, проколоть: «Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу.»
В гонениях, в обстановке постоянного запугивания, бесчисленных трагедий, происходивших вокруг ежечасно, да еще при жизни в нищете (была карточная система, но «лишенцам» карточки не полагались, и питаться приходилось, пользуясь рынками, которые, как частные точки, разгоняли, а то и случайными приношениями), в этой обстановке простая мысль о завтрашнем дне была пугающей.
И вдруг рука Божия снова послала отцу Павлу возможность священнического труда.
У моста через Яузу в бывшем селе Рубцово, а потом — Покровском, стоял древний двухъярусный собор Покрова Богоматери. В его первом этаже находилась созданная еще по царскому указу Община сестер милосердия. Это был как маленький монастырь во главе с игуменьей, где для проведения богослужений нужен был священник. На скромную должность священнослужителя, а также духовника этой Общины и был приглашен отец Павел, который с благодарностью и воодушевлением принял этот дар.
Он никогда не служил в монастыре, и вот это случилось.
В общем развале, разгроме, разгуле богоборчества эта монашеская обитель была островком сохранившегося молитвенного благочестия.
Почти одновременно с приходом к Покрову отца Павла в Кремле ликвидировали Вознесенский монастырь и монахинь просто выметали, как ненужный мусор. Эти с юных лет молитвенницы и виртуозные рукодельницы в страхе и ужасе уходили из своей обители, ища какого-нибудь пристанища. Покровская община приютила тех, кто выжил и не ушел из Москвы. Насельниц и молитвенниц в общине стало больше. А тут еще оказалось, что новой власти понадобилось громогласное прославление, новые монументы, памятники, свои поэты-крикуны. Поэтому власть не только не протестовала против поселения вознесенских мастериц в Покровскую общину, но и позволила организовать артель по изготовлению знамен, плакатов и портретов новоявленных вождей. Это новое, художественное восхваление советской власти должно было создаваться руками выгнанных вознесенских умелиц на бархате, атласе, шелке знамён, шитых золотыми, серебряными нитями, камнями и жемчугом. Ценные материалы, дорогие ткани им дали, реквизировав это, конечно, из того же Вознесенского монастыря.
Стежок, стежок, узелок.
В стежки вплетается тихий голос живой свидетельницы тех дней Надежды Павловны Ансимовой.
Покровская община началась для меня с тех пор, когда папу (отца Павла) перевели туда после разрушения храма Введения Пресвятыя Богородицы на Введенской площади (ныне площадь Журавлева). Храм Покрова Пресвятыя Богородицы был маленький, уютный. Службы там были долгие, близкие к монашеским. Псалмы читали и пели полностью без сокращения. Пели там монахини с разными диапазонами голосов. Хор был красивый. Отец Павел очень любил хоровое пение. Так как в Вознесенском монастыре монахини занимались художественным рукоделием, их (как артель) приспособили шить знамена и портреты вождей. Рассказывали монахини, что им поручили вышить портрет Ворошилова в шинели. Они вышили шинель с застежкой налево, как застегивают рясы и подрясники. Оказалось, что нужно было застежку сделать направо, как у светской мужской одежды. Пришлось все перешивать.
Папу монашеская община очень уважала и любила за его усердное служение, за проповеди и за чуткое отношение к людям. Жили монахини в очень большой комнате, где рядами стояли чистенькие аккуратные железные кровати. Около каждой кровати стояла тумбочка для хранения личных вещей и белья. В углу был киот с иконами и лампадками. Помню прекрасную икону преподобной Евфросинии в полный рост, основательницы Вознесенского монастыря и покровительницы монахинь. Сейчас она находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Видимо, эту икону принесли туда из Кремля при разрушении монастыря, а икону в Покровской общине писали сами монахини. Житие преподобной Евфросинии очень поучительно. Всегда читаешь его с глубоким чувством любви к ее мудрости и подвигам.
Большую часть комнаты занимали рабочие места, где стояли пяльцы и принадлежности для работы. На больших пяльцах работало по несколько человек. Там шили крупные вещи. Много было маленьких пялец для одиночной работы. Знамена с золотой нитью шили специалисты золотошвейки. Вышивали разными швами: и гладью, и «штопкой», и «канителью», и бисером, и «узелками». Эта работа была большим искусством.
Одной из художественных работ была икона Покрова Пресвятой Богородицы. Эта икона была вышита в двух экземплярах. Одну они сделали в дар храму, а другую — в дар отцу Павлу. Та икона, которую вышили для храма, находится в храме Николо-Покровском, а свой дар отец Павел хранил до последнего своего служения в храме Рождества Христова.
В какое-то время (даты не помню) эту артель распустили с условием самостоятельного обустройства тех тружениц в жизни. Кто куда устроился, сказать трудно.
В 1930 мне было 16 лет. Меня никуда не принимали из-за социального происхождения — ни учиться, ни работать. Попытки устроиться были, экзамены сдавались успешно, но в списках принятых меня не было. Отец считался «лишенцем», и наша семья не получала продовольственных «заборных» карточек. Мне посоветовали обратиться к прокурору. Прокурор, выслушав просьбу, сказал — чтобы получить «заборную» карточку, надо жить отдельно от родителей-лишенцев.
Одна из монахинь Покровской общины, оставшись без крыши, обратилась за советом к отцу Павлу. Моим родителям пришла мысль поселить нас вместе — матушку Евдокию и меня. Матушка Евдокия (Евдокия Иосифовна Лёшина) была из многодетной семьи, и ее с малых лет отдали в Вознесенский монастырь, где у нее была тетя монахиня. Нам сняли комнатку на Открытой улице. Это была последняя улица, пересекавшая Лаченков переулок. Наше окно выходило на огороды, где сажали картошку и овощи. (Теперь там начинается Открытое шоссе). Там мы жили до моего замужества. Жили мы строго, придерживаясь матушкиных уставов, ходили в храм, молились, постились и любили петь. У матушки было прекрасное сопрано. Она учила меня вышивать. Осталась наволочка на подушку, которую я вышила — «На память папе». Получив карточку, обучившись частным образом, мне удалось устроиться на завод. Сначала чертежником, а потом уже работая на заводе, удалось окончить чертежно-конструкторские курсы.
В 1935 году по настоянию мамы я вышла замуж. Мою мечту о монашестве мама считала нереальной, так как монастыри разрушали, монахинь разгоняли, а подвиг замужества мама считала не легче монашеского. Мужа мне выбрал папа. Прожили мы с мужем 56 лет в мире и согласии. Это был очень скромный, умный и чуткий человек — инженер Владимир Николаевич Покровский.
Куда устроились монахини из Покровской общины, не знаю, но многих помню и поминаю их: монахинь Ираклию, Дорофею, Антонию, Сергию, Авраамию. Царство им Небесное и вечный покой пошли, Господи!
Матушку Евдокию в 1936 году арестовали и сослали. Из ссылки писем от нее не было. Перед папиным арестом в 1930 году мама отдала матушке на сохранение папин крест и часы. Где находились эти вещи во время ссылки матушки, мы не знаем, но, вернувшись из ссылки в 1957 году, матушка, встретившись с мамой, передала ей эти вещи. Они хранятся у брата Георгия.
Вернувшейся из ссылки матери Евдокии нельзя было проживать в Москве. Узнав о том, что в Рязанской губернии в селе Лётово служит отец Иоанн Крестьянкин, матушка поехала к нему и служила у него алтарницей. Отца Иоанна после ссылки пять раз переводили из храма в храм, пока, как он говорил, он не припал к ногам Патриарха Алексия I с просьбой устроить его в обитель. Его Святейшество благословил его на место жительство в Псково-Печерскую обитель, где Господь хранит его доныне. Матушка приезжала ко мне, когда я была уже замужем. Ей надо было помочь, кое-что сшить и снабдить ее некоторыми бытовыми вещами. Умерла матушка в Лётово в схиме монахини Евфросинии. Но о смерти ее мне никто не сообщил. Вечная память Вам, дорогая моя наставница, труженица и мученица. Всегда молюсь с любовью и благодарностью.
Тридцать лет назад, в благодарность Богу за то, что Он слышит, внимает и протягивает могучую Руку помощи, Надежда Павловна дала обет послушания, по благословению своего духовника, отца Иоанна Крестьянкина, — свой дар вложить в сотворение параманов и жертвовать их в монастыри. Было одно препятствие к этому тончайшему рукоделию — слабое зрение. Но духовник ободрил: «Я пришлю Вам помощников.» Вскоре переслал для нее маленькую, на картоне, икону целителей очес — святых Мины, Лаврентия, Лонгина и святителя Алексия. Каждый раз, начиная рукоделие, она ставила перед собой икону, прося их помощи, и вот сейчас, в свои девяносто, она вышивает и читает без очков.
Параман — кусочек твердой ткани, на котором вышиты надпись, крест, терновый венец и много символов вещественных и буквенных, обозначающих страшный акт мучений на кресте Иисуса Христа. Параман носится монахами, привязанным к спине в знак обремененности каждого тяжестью грехов, совершенных человеком и необходимости постоянного покаяния.
Сколько лет днями и ночами она обвивает бесконечную нить вокруг креста с терновым венком, сколько сотен параманов надеты, как духовные вериги на согнутые спины и сколько сотен молитв вознесено в благодарность за неустанный труд ссутулившейся маленькой вышивальщицы! А в ответ из Псково-Печерской обители приходят письма-благословения с адресом «Надежде, что шьет параманы».
Стежок, стежок, узелок.
И кажется, что за пальцами и иглой девяностолетней труженицы стоит нескончаемая череда всех русских умелиц, когда-то принявшихся за труд с благословения монахини Евфросинии, и что эта игла, творящая чудеса, уже не игла, а бесценный символ, тянущий нить русского молитвенного творчества сквозь века.
Это короткое время служения отца Павла в храме Покровской общины, время совместного моления гонимого пастыря и гонимых монахинь, было отмечено драматическим финалом развала русского вдохновенного коллективного творчества, творчества православных мастеров, сформированного в Кремле во времена Куликовской битвы и Дмитрия Донского.
XVIII. КРЕСТ
Через дорогу от Покровской общины был большой храм, посвященный святителю Николаю, а левый придел – Покрову Богородицы. И конечно же послушницы общины ходили в этот храм, где служил энергичный, неутомимый священник Георгий Горев. Отец Павел часто бывал здесь; сослужил отцу Георгию; иногда помогал руководством, а то и участием в хоре храма. Оба священника, вдохновленные возможностью соединить силы в храмовых молитвах, сблизились еще и из-за грозы гонений.
В 31-м году отца Георгия арестовали. Отец стал служить в Николо-Покровском постоянно, помогая очень больному и пожилому настоятелю. Туда приезжал служить и владыко Евсевий, там я был у него посошником. Там была отцовская радость полной духовной и физической отдачи. Почти год счастья.
По угнетенному состоянию монахинь я догадывался, что происходит что-то грозное. Отец приходит в общину каждый день. В храм Николы не заходит, просто выслушивает что-то, что-то сам говорит, но я вижу, что ему это все не нужно, а нужно совсем другое. Мне он ничего не рассказывает. Дома при мне разговоров о тяжелой жизни вообще не велось. Только от обеспокоенных монахинь я услышал, что храм закрыли, а отца и всех, кто там был, назвали врагами и запретили даже показываться.
Отец часто, без всякой надобности, садился на хилую скамейку у решетчатого окна храма общины и смотрел через дорогу. Там — храм Николы. Там он был. Там мы все были.
Теперь неизвестно, заперты ли двери на замок, но есть то, что страшнее замка — бумажки с печатями, наклеенные на соединение дверей. Храм стоит, как мертвый. Запыленные, забрызганные окна. Не видно приветливых дорожек. Все омертвело. Не помню сколько, но, казалось, очень долго мы оба ходили в общину молчать. Отец ходил и без меня — дома он метался, и, не успев придти из похода в общину, снова одевался. Мама его отговаривал, пугала. Но он по-другому не мог. Мама посылала с ним меня, думая, что я устану, отец пожалеет меня и вернется. Но я был с отцом, и разве мог я сказать – устал. Иногда отец ходил и вечерами и, опять же, чтобы не стоять на улице, заходил в общину. Он ждал. И все понимали чего. Это был четвертый храм, в котором отец служил, и четвертый храм, закрываемый и разрушаемый на глазах отца.
Храм Николы в Покровском был великолепен, отделан, украшен, и, главное, намолен. Каждый его угол, образ, камень несли на себе память молитв, скорбей, радостных озарений и душевного откровения.
И отец был свидетелем и участником таких смиренномудрых бесед с Богом. Глядя на храм, отец видел не каменную келью, он видел и помнил бесчисленные вспышки откровений человеческих душ, воссылаемых через него к Богу. Младенцы и убогие старики, новобрачные и одинокие, праведные и грешники, люди расцветающие и увядающие, питающие надежду или теряющие веру. Несть числа им, нуждающимся в такой келье с чутким пастырем. Сейчас на этом месте любви, надежд и веры наклеена бумажка с печатью — оставь надежды!
Оставить надежды на духовную помощь людям, когда они все больше и больше нуждались в ней? Оставить надежду на исполнение своей главной миссии, осознанной в стенах семинарии и Академии, оставленной как духовное завещание его отцом, тоже священником — иереем Георгием, миссии духовного окормления паствы? Как свет звезды, всегда горели в его душе слова Христа: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.» Для отца Павла это был символ духовного созидания. Нуждающихся в духовной поддержке становилось все больше, а насильственный отрыв от закрывающихся десятков и сотен храмов делал труждающимися и обремененными сотни, тысячи, десятки тысяч людей. «Господи, спаси люди Твоя.»
Тем временем к храму иногда подъезжали какие-то люди в пальто, в гимнастерках или поношенных кожаных тужурках. Они вели себя, как на свалке — плюнуть, пхнуть ногой, погасить о стену окурок для них было обычным делом. Жители округи, монахини из Покровской общины пытались подойти к ним и заговорить — что же будет с храмом? В ответ громко — они все делали и говорили громко — с хозяйской иронией, смеясь, отвечали — будет клуб. Или — будет склад. Или — взорвут. Или — разнесут на части — полы мраморные, двери крепкие, серебра и позолоты — не счесть. Или — сделают пожарную команду, а на колокольне вышку, как в Сокольниках.
Отец все это слышал и понимал, что любое из сказанного может свершиться, а может быть еще более варварское. Но он был бессилен. Как дерево, от которого отломили ветви и бросили, а ствол обрубленный стоит и ссыхается, а ветви вянут и отмирают, так и отец, оторванный от алтаря, где впитывал в себя все человеческие духовные болезни и горести, бродит и не находит себе места, истекая мучительной сукровицей бессилия. Хоть его и выставили, и пригрозили, он еще весь там, на амвоне, в алтаре, за жертвенником, на клиросе, где лился поток молитв, и их музыка стучит в висках и по сей час. Поэтому он почти не слышит моих вопросов или отвечает невпопад, чем еще больше меня озадачивает.
Он предполагал, что с храмом будут что-то вершить ночью. Ночью арестовывали, ночами допрашивали, ночь — для всего тайного, нечестивого, чтобы никто не видел.
Однажды, когда он уже направлялся от общины домой, к Покровскому мосту, держа меня за плечо или, как мне хотелось бы думать, держась за меня, скрежет мотора грузовика, а машины на улицах в то время, да и в том районе были редкостью, заставил его оглянуться.
Со стороны Москвы, то есть по Покровской (ныне Бакунинской) улице на открытом грузовом автомобиле ехала целая орава. Они стояли в кузове, как кегли — так их было много, стояли, держась друг за друга, при каждом повороте или ухабе вскрикивали, всвистывали и кричали. Им казалось, что они пели, но это был разгульный крик опьяненной вседозволенностью толпы. Они ехали, как тогда называли, на коллективный выход или выезд на какое-то задание, а потом развлечение и, конечно, самогон, — субботник. Дорога шла под мост, а дальше на Семеновскую и в сторону Измайлова. Гулять было где. Но машина остановилась у храма Николы — приехали!
Шофер откинул брезентовую крышу кабины — там почти один на другом сидели люди. Те, кто были в кабине, смотрели на храм и на купол. Один из них был в большой кепке и в галифе. Рядом с ним худощавый, лысый и с очень большим государственным портфелем. Толпа, свалившаяся с машины через борта наземь, разминалась и ждала. Потом тот, кто в кепке, встал, и толпа ринулась к нему, осадив кабину. Кепка долго кричала, указывая на храм, на бумаги в руках у соседа и на купол. Кричала с перерывами, чтобы толпа отозвалась. И та отзывалась — смеялась, вскрикивала, свистела и, наконец, взвыв, повернулась к храму и, как сорвавшись, ринулась к воротам. На ходу раздеваясь, скидывая пальто, куртки, те, кто не влезал в ворота, ринулись на ограду и сразу на концах ограды появились комки человеческих тел, которые, балансируя, выражали восторг героев, одолевших вершину.
Я чувствовал руки отца то на голове, то на плечах, они то сжимали меня, то совсем бросали. Мельком взглянув на него, я увидел, что губы его все время что-то вышептывали. Конечно же, в этом бессилии он мог только молиться.
Орава, как я понял, решила влезть на купол. Откуда-то со двора появились лестницы, и особо горячие, срываясь, но ободряемые возгласами толпы, карабкались на алтарную абсиду. Лезли, срывались, хохотали, тянули руки, подталкивая отставших, и снова лезли. И, наконец, над тем местом, на которое я, стоя внутри в алтаре, смотрел с трепетом, над тем местом, где был восставший из гроба Спаситель, оказалось несколько парней, лихо топающих по гудящей кровле крыши. Снизу всё лезли, и вот уже на крыше стало тесно, и надо хвататься друг за друга, чтобы не свалиться. Тот, что в кепке, все тыкал пальцем наверх, на главный купол, и призывно взмахивал руками, как будто что-то сметал.
Перед нами, на алтарной крыше, на ограде и вокруг нее был неудержимый полупьяный, бесшабашный разгул — лезли, падали, кричали, опять лезли. Вокруг собиралось все больше народа — жившие по соседству, прохожие.
Сзади нас, в полуотворенных дверях, в окнах и даже около дома и храма общины причитали, охали, всхлипывали и утирались ладонями, рукавами, платками потрясенные кощунством жительницы артели. После запрета богослужений в Покровской общине их встречи с отцом Павлом в Николо-Покровском храме были неожиданным счастьем, потому что исполнение обряда, участие в богослужении по такому знакомому и родному чину, слияние в хоровом общем пении, исповедь, а потом и причащение — это было все самое ценное, что осталось после разгрома их обители.
Отец Павел, всегда добрый и чуткий, безгранично терпеливый и внимательный, был для них тем светом, которого ждали, в который верили и который среди этого нового враждебного мира грубостей, издевательств, плевков, а то и ударов, был единственной надеждой в их растоптанной жизни.
И вот сейчас этот отец Павел стоит, держа или держась за своего сына, и видит, как храм попирается пляшущими сапогами и опорками. И чем дольше видят эти монахини пляски на крыше алтаря, тем страшнее им смотреть на молчащего, только содрогающегося пастыря, который еще вчера стоял там, внутри, и говорил, как надо любить своих врагов.
С лестницами, поднятыми на алтарную крышу, с веревками, крича, свистя, приехавшие вскарабкались на самый купол. Закинув веревку за крест, подтянувшись и уцепившись за него, они махали тем, кто стоял внизу. Кто-то из них достал мятую красную косынку, махал ею, держась за крест, и пытался повязать красный клочок на крыло креста. В общем вое нельзя было разобрать крика того, в кепке. Он продолжал жестикулировать и делать руками круги, будто обертывать что-то. Снизу по рукам висящих и прилепившихся фигур передавали наверх веревки, а стоящие там обвязались ими, привязав другой конец к кресту. Под хлопки и крики они образовали что-то вроде карусели и, ударяя, что есть силы, по крыше купола, нарочно, чтобы было больше грома, крутились вокруг креста, вминая и коробя железо. И чем больше вмятин, горбов, а то и дырок становилось в куполе, тем победнее и злее был вой всех, стоящих внизу.
Когда мы выходили из дома и мама, провожая, крестила нас, она держала в руках зонтик для нас — небо было серое и дуло. Зонт мы, конечно, не взяли. Не потому что, авось, дождя не будет, хотя и поэтому тоже, а потому, что в то время зонт был явным свидетельством принадлежности к другому классу. Зонт — у тех, кто богат. У буржуев. Даже стыдили — « А еще в шляпе!», «А еще с зонтом!»
Дождь пошел. Сначала крапал, и запахло пылью. Потом зарядил упорно и, казалось, нескончаемо. Пляски на куполе утихли — стало скользко. Вся «карусель» села на железо, держась друг за друга и за веревки, примотанные к кресту. Стоять было нельзя — ноги срывались вниз. Снизу, в кепке, кричал, торопя и показывая руками на крест, переворачивая руки, дескать, ломай! Скатываясь, скользя, верховые схватились за крест и — дернули.
Качнули раз, другой, и еще — крест будто и не обращал на них внимания. Как каменный, неколебимо стоял, и казалось, он был где-то далеко от всех, и человеческие пятерни его совсем не касались. Оставив веревки и облепивши крест, обозленные плясуны, причитая «р-р-раз! р-р-раз!» всеми своими телами старались пошевельнуть крест. Под крики снизу, под уханье намокающей толпы, которую неколебимость креста раздражала, облепившие, держась за крест и за веревки, скользя, падая и карабкаясь по веревкам, опять толкали, колебали, били ногами, бросали свое тело на крест. Крест стоял.
Под выкрикивания советов снизу, под насмешки и указания толпы один из плясунов, схватившись за крест и обвив его ногами, начал обматывать конец веревки вокруг крестовины. Другие, схватившись за крест или друг за друга, навязывали к веревке ее продолжение и, лежа на скользком скате купола, спускали конец навязанной веревки вниз. Внизу тоже наращивали веревки. Две их намокшие части соединили, и за скользкую, узловатую, из разных кусков соединенную ленту схватились все. Крича, толкаясь, скользя по мокрой земле, толпа натянула эту узловатую толсто-тонкую веревку. Тот, кто обматывал крестовину, подергал, соскользнув, лег на купол, держась за основание креста, и махнул — тяни! Все плясуны, держась за натянутую веревку, скользя, кувыркаясь и, конечно, громогласно отругиваясь, съехали вниз. От дождя веревка стала тяжелой, поднять и натянуть её было трудно. Она была, как цепь. Дернули, подняли, натянули, дернули, взялись еще, дернули — крест стоит.
Намокшие командиры в машине ругались и махали руками, портфелем. Ничто не помогало. Толпа разделилась. Кто-то бросил веревку. Кто-то дергал и руководил. Кепка уже не кричала, а лаяла. Видно было, как толпа наливалась злобой. Эти бесконечные крики, дождь, скользкая земля, мокрые и грязные руки от набухшей веревки. Виноват, конечно, этот крест, и этот храм, и эти попы. Упал бы крест, и все по домам, и план выполнили, и выпили бы после дождя. А он стоит.
В кепке слез с машины и сам взгромоздился на ограду — лучше видно и удобней командовать. Ворчащая толпа снова взялась за веревку. Дернули. Еще. Стоит.
Отец прижал меня к себе близко и накрыл полами пальто. Ветер свистел, и под ногами было мокро. Я стоял в темноте под сомкнутыми полами пальто и только в узкую щель мог видеть, что там — около храма. Отец прижал меня сильно, очень сильно. Казалось, он не понимал, что мне душно и больно. На меня сверху, с его головы текли струйки, но отец не замечал этого.
Только сейчас, через семьдесят лет, когда я узнал всю правду об отце, о его травле, о его верности духовному обету, несмотря ни на какие гонения, я могу себе представить, что проносилось в его воспаленной голове, когда он смотрел на свержение креста.
Станица Ладожская. Трудное, неожиданное, непривычное существование священника — станичного селянина. Грабежи, возможность быть каждую минуту убитым. Угроза закрытия храма. К бандам-разбойникам присоединяется еще новая — «обновленцы». Кругом разорение. После закрытия храма священник никому не нужен.
Безысходность. Испытание веры.
Предложение работать в московском храме регентом хора. С женой, десятилетней дочерью и трехлетним сыном — в Москву.
Храм. Богослужение. Хор. Музыка. Да, бесправные. Да, «лишенцы». Но его обет совершается. Он — нужен.
«Благословен Бог наш!»
Но и этот храм закрывают, ломают, сносят кресты, сваливают имущество, выбрасывают иконы. Вон. Всё вон и всех вон!
Набирает обороты страшная машина репрессий. Всё растёт число страждущих и обремененных душевной болью.
И вдруг опять есть возможность быть нужным. Служить в храме Введения на Введенской площади.
Стараниями отца Павла храм стал той манящей обителью, где можно открыть свое сердце, умиротворить душу в молитве среди взбудораженного, пропитанного злом и новым чувством классовой ненависти мира.
Тихое, согретое теплом спетой молитвы богослужение, исповеди, добрые, пронизанные душевной болью беседы и согревающие душу проповеди создали оазис надежды, терпения и любви.
К храму идут, тянутся, стремятся.
Но закрывают и этот храм. Запечатывают двери, вывозят и сваливают имущество, скидывают кресты, сбрасывают колокола. Начинают ломать стены, на которых неповторимые фрески. Всё прахом. И эта обитель уничтожена.
Опять — испытание. Полное ощущение травли, все сужающегося круга, обложенного красными флажками.
И вдруг — новое назначение, промыслительная возможность молиться, служить во славу Божию и на пользу людям. Да еще в каком храме — у Николы в Покровском! А рядом — община, где еле существуют монахини кремлевского Вознесенского монастыря.
Вот она — нечаянная радость! Наконец-то можно выйти в этом сияющем православном дворце и, преодолев волнение, произнести заветное: «Благословен Бог наш! Благословенно Царство!»
А кругом — закрытия, взрывы храмов, гонения монахов, священников, верующих. Преследования не миновали и отца Павла. Арест. Тюрьма. Допросы. Следствия.
На многих вызовах из камеры на допросы — одно: бросишь это свое богомолье в храме, будешь жить. Ты молодой, грамотный, ученый — сможешь работать счетоводом, грамотные люди нужны. На бесчисленных дознаниях следователей лишь это, сатанинское — отрекись! После отказов арестованного допросы все жестче. Уже не только на словах.
Не согласился. Долго не вызывали.
Пока был арестован, все пятьдесят два дня, храм, осиротелый, молчал. Он, как оснащенный апостольский корабль, ждал кормчего.
Отпустили. «Благословен Бог наш!»
Мучительный кусок жизни, когда радость храмового молитвенного существования перемешивается с богоненавистническим окружением, когда стремление очистить душу наталкивается на неприятие или отторжение тебя или твоих детей, которых не принимают на учебу, осмеивают, считают врагами.
Опять арест. Камеры, уголовники. Выбивание признания, что ты враг и хочешь свергнуть Советскую власть. Допрашивали круглосуточно, меняясь, чтобы подследственный не мог спать и сидеть.
Месяц был без храма. Как после мучительной, изнуряющей болезни, дошел до него и со слезами благодарности к Богу при всей родной долготерпеливой пастве, держась за аналой, выдохнул — «Благословен Бог наш!»
Такая несказанная радость снова совершать литургию, исповедовать, приобщать, говорить о Христовых заповедях и совершать требы. Хотя свадеб нет — запрещены, крестин нет — теперь октябрины, а есть только похороны, панихиды, отпевания. Казалось, что отпеваешь не одного усопшего, а весь добрый, честный, праведный образ жизни.
Из своей щели я видел, как дергали, раскачивали крест и как он, хрустнув, покосился. За моей спиной слышались молитвенные причитания и несдерживаемые рыдания артельщиц. Крест упал на скат купола, соскользнул на край, и под вопли ликующей толпы, натянувшей веревку, опершись о желоб, встал дыбом и, перевернувшись, ударяясь о кровлю алтарной крыши, двинулся вниз. Мне казалось, что этот переворот и падение длились очень долго, потому что тянущие, увидев падение креста на них, бросили веревку и, как от взрыва, разбежались от того места, куда крест падал, потому что сзади тоже кричали — это были стоны и молитвы, потому что крест, зацепившись веревками за желоба и козырьки, задержался и повис своим изголовьем вниз. По нему свисали веревки, и по ним, и по кресту текли, сочились капли и струйки дождя.
Плакало и небо.
XIX.ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ.
Зима 37 года закуталась в снега и в панцирь из наледей и окаменевших сосулек. Уже март, а все холодно, и сердитый ветер даже в маленьком дворике в Лаченковом переулке летает и толкается, как уличный буян.
Дрова, запасенные на зиму, кончались, и отец Павел, надев на подобранный подрясник старый, еще астраханский, овчинный полушубок, решил распилить старые доски, чтобы потом их наколоть. Сын в школе. Пилить одному двуручной хозяйской пилой неудобно. Жена, как всегда, оделась, чтобы помочь, но муж сказал, что с пилкой подождет сына, а будет колоть уже напиленное. Конечно, неправду говорить нехорошо, но завтра у жены именины — день памяти преподобной Марии Египетской, и ей надо дать время, чтобы приготовиться за сегодняшний день – спечь пирог с грибами, сделать винегрет, сварить чечевичный суп. Идет пост, но завтрашний обед должен быть особенно вкусным. Сегодня вечером и завтра она идет в храм, там будет исповедь, а потом причастие. Он постарался быстро распилить полусырые доски, чтобы не видела жена, и сейчас уже ставит полено, держа в правой руке колун. Полено толстое, и придется его раскалывать по частям.
Сегодня вечером в храме для отца Павла не просто преддверие памяти Египетской преподобной Марии. Сегодня долгожданное чтение и пение канона, созданного греческим монахом, мудрейшим философом, поэтом, преподобным Андреем, подвизавшимся в монастыре на Крите. И самого Андрея, и созданные им молитвы, сложенные в идеально стройную форму канона, назвали критскими. Вот уже много веков весь православный мир два раза в году великим предпасхальным постом молится, произнося и истово выпевая драгоценные, Богом посланные слова. Предвкушая сегодняшний вечер, отец Павел, не замечая усилий в возне с дровами, с волнением готовится читать и петь эту божественную поэму, где каждая мысль обогащает душу. Так построен канон, что после нескольких стихов каждой песни есть возможность впитать в себя услышанное или произнесенное, обняв мысль прозвучавшую, испросить Бога помочь отдаться этой истине, произнеся: «ПОМИЛУЙ МЯ, БОЖЕ, ПОМИЛУЙ МЯ»
Особенно это трогает, когда это поется и когда каждый сильный слог стиха растягивается и опевается – помилуй мя, Бо-о-оже, поми-и-илуй мя-а-а! В таком состоянии усваивания смысла, вникания в него особенно нужно, даже потребно не просто произнести, а растянув, продлить момент, не оторваться от этой молитвенной близости.
Казалось, такие толстые поленья и сырые, а как быстро и легко колятся! Почти месяц назад он читал и пел этот канон, и уже сколько лет берет в руки и знает почти наизусть. И не учил, а сам канон улегся в память, как в свое гнездо. Можно было к нему привыкнуть, ан нет! Как только что-то происходит, как какое-нибудь чувство одолевает, так канон сам возникает и помогает, облегчает, выручает, сопутствует. И как счастливо сложилось, что сегодня он будет читать его, этот канон, а завтра поздравит жену и детей с днем Ангела их матери. Как счастливо быть со своей семьей в мире и любви…
БЕГАЙ, ДУШЕ МОЯ, ГРЕХА, БЕГАЙ СОДОМЫ И ГОМОРРЫ, БЕГАЙ ПЛАМЕНЕ ВСЯКОГО…
Действительно, счастливый узел совпадений. Отец Павел с удовольствием возносил колун, расщеплял полено, предвкушая добрый дом, праздничный стол и тихие часы со скромной, мирной семьей, согретой молитвой Андрея Критского.
Придется долго разжигать печь. Набрать бы березовой коры — она хорошо горит, и дрова схватятся, даже сыроватые. Уже готова охапка, еще немного, и можно нести домой, да там зайти к хозяину дома, рыжеватому, суровому, с узким лицом и татарскими глазами Петру Васильевичу Королькову. Ему вчера занемоглось, и он уже к полуночи прислал маленькую горбатенькую жену Татьяну Федоровну, чтобы отец Павел зашел и сказал, что надо делать православному, который забыл совсем Бога, отошел от Него, но умереть-то хотелось бы по-христиански. Отец Павел ночью пришел, исповедовал. В полутьме хозяин дома и жилец шептались о Боге и об обязанностях простого мирянина перед церковью.
ТЫ ВОЗЗОВИ МЯ И ПРИМИ ЯКО БЛАГ КАЮЩЕГОСЯ.
Вот еще одно полено расколю, отнесу, вымою руки и зайду к Петру Васильевичу, а вечером в храме помолюсь за болящего Петра. Расколол, повернулся, а дрова уже поднялись с земли. Стоя с зажатой между ног школьной сумкой, сын держал одной рукой охапку дров. Другой рукой перехватил сумку: «Отпустили раньше. Заболел математик!» Вдвоем, с дровами, хозяйскими колуном и пилой, они пошли к крыльцу и стали тщательно стучать и тереть подметками, чтобы не внести в дом снега и сырости. Жена уже вскипятила на керосинке закопченный и уже не отскабливаемый чайник. На столе стояли чашки, сухари и мед, ничего скоромного – пост.
«Запирайте дверь, дует же!» – беспокоилась мать, глядя, как сын и отец отряхивают друг друга. Заперли. Мать из ковшика полила на руки и дала полотенце. Встали около стола. ОТЧЕ НАШ… В дверь постучали. «Это Татьяна Федоровна. Маруся, скажи, что я сейчас зайду к Петру Васильевичу».
Жена открыла дверь, ожидая увидеть горбатую хозяйку. Перед ней стояли двое. «Гражданин Анисимов здесь живет?» Жена отпрянула. «Паня!» — позвала она отца Павла. Он вышел из комнаты и подошел к двери. На улице еще светло. В проеме двери стояли два силуэта: один невысокий, в форменной фуражке и темном длинном пальто, другой высокий в деревенском полушубке. Нагибаясь, чтобы не задеть притолоку, он занял всю дверь и казался необъятным.
— Ансимов, — сказал отец Павел.
— Нет, Анисимов. Ведь Павел Георгиевич? Верно?
— Да.
— Паспорт!
— Ну, конечно.
ПОЩАДИ, СПАСЕ, ТВОЕ СОЗДАНИЕ И ВЗЫЩИ ЯКО ПАСТЫРЬ ПОГИБШЕЕ, ПРЕДВАРИ ЗАБЛУДШЕГО, ВОСХИТИ ОТ ВОЛКА, СОТВОРИ МЯ ОВЧА НА ПАСТВЕ ТВОИХ ОВЕЦ.
— Пройдите, надо закрыть дверь. Ведь мороз!
И действительно, из двери, которая плохо закрылась, и ее надо было открыть, чтобы захлопнуть, по ногам стелилось облако изморози. Высокий замерзшими пальцами взял паспорт и передал его невысокому. Тот долго искал листок с именем. Нашел. Прочитал.
— Да, правильно. Странная у вас фамилия. Я — следователь ОГПУ (протянул бумажку). У меня ордер на обыск в вашей квартире (протянул еще одну). Зовите меня Борис Борисыч. Нам нужны понятые. Есть у вас соседи?
Отца Павла уже обыскивали и арестовывали два раза, и оба раза понятыми были хозяева этого домика — Петр и Татьяна Корольковы.
Жена вдруг сказала: «Наш сосед – хозяин Корольков. Но он болен!» Наивная, она подумала, что если вдруг окажется, что нет понятых, то, может быть, эти двое уйдут. «Товарищ Дубов, зайдите к соседям и скажите (вдруг зазвучала привычная лозунговость), скажите, что ОГПУ требует двоих понятых. Они должны понять. Покажите, где соседи». Дубов опять открыл дверь, отец Павел посмотрел на сына, тот, не одеваясь, повел его на соседнее крылечко к Корольковым.
Следователь прошел мимо посторонившихся в комнаты, осматриваясь так, будто хотел сюда переехать и тут жить.
— Сколько комнат?
— Две и чулан.
Встав посередине столовой около чашек с чаем, он, прищурившись, стал раздеваться.
— А вы кто?
— Жена.
— Паспорт. А этот, что ушел?
— Это сын.
— Сколько лет?
— Четырнадцать. Паспорта нет.
Отец Павел направился на то место, где стоял.
— Стоять! Ничего не трогать! После объявления об обыске никто не имеет права брать, класть, переносить, раздеваться, передавать, зажигать – будто читая, заученно произносил Борис Борисович.
— Стоять! — резко выкрикнул он вошедшему сыну. Тот замер у открытой, дышащей паром двери. За ним шли Татьяна Федоровна и Дубов. Дубов подошел к следователю и, сильно нагнувшись, прошептал ему в затылок:
— Хозяин дома, болен, но идет. С документами.
Все стояли неподвижно, замерев, как в сказке о мертвой царевне. Не шевелясь, ждали Петра Васильевича. Он пришел с паспортами, завернутыми в газету и в красную тряпку. Борис Борисыч долго вглядывался в лица понятых, сверяя с фото на паспортах.
— Очистите стол! Товарищ Дубов, ведите протокол.
Из папки, с которой пришел, вынул листы бумаги.
— Дайте ручку!
Дубов:
– Я.., я лучше карандашом…
Борис Борисыч:
— Граждане понятые, вы приглашены, чтобы быть свидетелями при обыске у обвиняемого Анис… Ансимова Павла Георгиевича, служителя религиозного культа. Гражданин Ансимов, вам предлагается добровольно сдать антисоветские издания, хранящиеся у вас.
— Я заявляю, что у меня ничего, что вами названо, нет.
— Тогда покажите, где у вас книги, газеты, ценные вещи. Где одежда. Не прикасайтесь.
Это был третий обыск. После обысков следовали аресты. Отец Павел, уже испытавший процедуры обысков и арестов, видел, что тут, в этот раз было много необычного. Во-первых, это было днем. Предыдущие аресты, как и вообще все аресты в это напряженное время, были по ночам. Эти двое не приехали на машине, а пришли пешком, и если бы не пугающие документы, которые они предъявили, и не уже узнаваемое поведение их, чекистская манера держать себя, вызывающе повелительно командуя, как в штрафной роте, и не форменные синяя с малиновым кантом фуражка и пальто, которые уже стали узнаваемыми, особенно в подъездах и переулках Арбата — дорога Сталина в Кремль, правда, на тех «топтунах» всегда были еще и меховая шапка и валенки, а у этого сапоги — если бы не это, их можно было бы принять за грабителей, явившихся внезапно, нагло застав всех врасплох.
Борис Борисыч перебирал каждую книжку, дергая корешки обложек. Перебрав книги, особенно молитвенники, а также книги сына, он не выдержал и подошел к отцу Павлу с уже накопившимся гневом: «А «Протоколы сионских мудрецов» где спрятаны? Под полом? На чердаке? В печке?» Не получив ответа, он уже неуверенно взял ухват и, заставив жену отца Павла светить свечкой, ворошил золу в истопленной этим утром печи. Бросив ухват и вытирая сажу с рук о бока штанов, он подошел к шкафчику с посудой, который мама величала «буфет», и еще раз вынимал и смотрел чашки, блюдца, заварочный, с привязанной к ручке пожелтевшей крышечкой чайник.
— А это что? — резко бросил он, разворачивая лежащий в глубине ящичка с ножами и вилками маленький сверток.
— Это чайные ложки. Еще мое приданое. Было шесть, но две уже пропали, -ответила мама.
— Серебро?
— Да, наша семейная память.
— А где еще серебро? Золото, камни?
— То, что вы держите, единственное. Наше единственное.
— Показывайте ваши ценности!
У матери было обручальное кольцо, брошка с круглым, как двухкопеечная монета, черным камнем, похожим на блюдечко, и серьги. Борис Борисыч долго, как ювелир, рассматривал это, но в протокол записывать и конфисковывать не стал. Бросив сверток с ложками Дубову, он быстро пошел к киоту. «Но здесь уж..! — вдруг в эту скрипящую, звякающую бессловесную возню пугающе громко врезался голос отца Павла — но здесь уж, вы сами не прикасайтесь!» И обращаясь к не ожидавшему такого Борис Борисычу уже чуть сдержаннее продолжал: «Скажите, что хотите видеть, но прикасаться буду я.» Отец открыл дверцу киота и посмотрел на Борис Борисыча. Тот бурчащее произнес: «Что за иконами?»
Отец Павел снимал каждую икону, оглаживал ее и вертел перед следователем. Положив, постучал по задней стенке киота. Та пустотно ответила. Взглянув на Бориса Борисыча, расставил ноги и, взявшись двумя руками, отодвинул киот от стенки, чтобы можно было увидеть, что за ним. Следователь встал на четвереньки и полез в угол. Он простукивал мягкие от пыли доски пола. Когда он встал, отец Павел неторопливо поставил киот на место, открыл дверцу и, показав каждую икону еще раз следователю и приложившись к ней, ставил или вешал на место.
СЛЕЗЫ СПАСЕ ОЧИЮ МОЕЮ, И ИЗ ГЛУБИНЫ ВОЗДЫХАНИЯ ЧИСТЕ ПРИНОШУ, ВОПИЮЩУ СЕРДЦУ: БОЖЕ, СОГРЕШИХ ТИ, ОЧИСТИ МЯ!.
Поставив, закрыл дверцу киота, перекрестился: «Продолжайте».
Следователь уже обследовал все, о чем он заявил вначале. Дубов, обнаруживший свою малограмотность, почти перестал записывать. Борис Борисыч выходил на крыльцо и пытался заглянуть за намерзший сивый снег под ступеньками, в комнатах он после подоконников и карнизов, тщательно прослеживал, как прибиты доски пола и нет ли вставных кусков. Все это он приказывал заносить в протокол.
Дубов писал химическим карандашом, который он иногда слюнявил. Наслюнявленное написанное походило на постепенно иссякающую струю, где слюнявое выглядело жирным, а потом худело и высыхало, и последние буквы длинного перечисления читались очень плохо и нуждались в слюне. Корольков долго стоял вытянувшись. Потом опирался на плечо и горб Татьяны Федоровны. Потом хрипло попросился сесть. Борис Борисыч велел Дубову дать ему стул, заставив, предварительно, осмотреть стул снизу.
Начинало темнеть. Следователь иногда изнуренно ослабевал, но потом внезапно бросался или на шкаф, еще раз передвигая его, то к комоду, из которого уже вынул все белье, и, ходя по нему, еще раз перетряхивал платки и простыни.
Все, что лежало в единственном ящике письменного столика, было выложено на стол, переписано и сложено в наволочку. Евангелие, кропило, епитрахиль, проповеди отца Павла в тетрадях, написанные мелким убористым шрифтом и его карманный молитвенник. В эти годы даже и речи не могло быть о приобретении духовной литературы. Во всех храмах, монастырях и лично у каждого священника были старые, затертые, ветхие богослужебные книги, которые хранились, перелистывались с истовой бережливостью. Отец Павел нашел свой способ сохранения и использования исчезающих ценностей. Он сам переписывал их, превращая в карманный спутник. Он писал мелким, но удивительно разборчивым почерком, и сейчас в руках следователя был молитвенник, величиной с две спичечных коробки, но настоящий, полный, незаменимый. Сюда же пошли завернутые в пожелтевшую салфетку четыре ложки. Из наволочки получился узел, и его надо было укладывать в старый фанерный чемодан-ящик.
Следователь, спотыкаясь о кучи наваленного добра, подошел к столу, за которым сидел Дубов. Тот сидел на своем полушубке, все еще в нахлобученной шапке, в пятнистой от пота розовой рубахе-косоворотке, с вздыбленными, торчащими из-под шапки лохматыми волосами, которые когда-то давно подстригали «под горшок». Большие руки его лежали на смятых листках протокола, в руке его был столовый ножик, которым он затачивал карандаш. Губы были фиолетовые от многократного облизывания. По всему было понятно, что он из выдвиженцев — парней, посланных из деревни делать политическую карьеру. Борис Борисыч взял в руки протокол и посмотрел вокруг.
Только сейчас мы увидели наш дом, где мы не успели прочитать «Отче наш». Будто весь мир вокруг нас пропустили через небывалую мясорубку – такие нагромождения из простыней, веников, учебников, тарелок и ухватов были перед нами, а глаза его все шарили. Все было перещупано и обследовано, но они остановились на небольшом ящике, в котором – он это видел – лежали мои провода, конденсаторы, перегоревшие трансформаторы, из которых я брал нужную мне тонкую проволоку для самодельного приемника. Там лежал небольшой сверток в белой бумаге, перевязанный зеленой ленточкой. Следователь указал на него Дубову. Там была наша с папой тайна. Зеленый вязаный платок, который папа купил на рынке для мамы (она любила зеленый цвет) в подарок к завтрашним именинам. Он сказал – спрячь, мы вместе подарим! Я спрятал в мое радиобарахло. Дубов подошел, вынул, разорвал обертку и развернул платок. Мама все поняла. Любовь отца к маме, любовь к семье, внимание, душевное тепло и мамино понимание, благодарность и разрушенный праздник висели сейчас на корявых пальцах энкавэдэвского выдвиженца с фиолетовыми губами. Следователь кинул это к растоптанным тряпкам и не препятствовал маме взять. Мама с подрагивающими губами смотрела на отца. Она подошла, присела над скомканной кучей и загрубевшими пальцами начала по-детски трогать и разглаживать этот кусок шерсти, а сама все не сводила глаз с нахмуренного отца.
Борис Борисыч стал читать протокол. Что и как там было написано можно было только гадать, но следователь старался читать, как государственный документ. Вообще, по всему, что он делал, можно было видеть в нем будущего Дзержинского. Он заставил понятых расписаться. Петр Васильевич расписался, Татьяна Федоровна вывела первые буквы своей фамилии и, подумав, сделала пером хвостик. Все-таки документ!
В фигуре следователя и его тоне была некая торжественность победителя, когда он, кивнув Дубову и поставив его за собой, сказал: «Ну, гражданин Ансимов, одевайтесь! Товарищ Дубов, проследите!» Дубов ощупывал все, что надевалось — сапоги…пальто…шапку. Прощались замедленно, как на кладбище. «Чемодан понесете вы!» Отец Павел взял чемодан, снял надетую на него мамой шапку и, поставив чемодан, сказал: «Помолимся!» Мы подошли к киоту. Следователь, вынув пачку папирос «Беломор», закурил.
ЯКО СПАСЛ ЕСИ ПЕТРА, ВОЗОПИВША СПАСИ, ПРЕДВАРИВ МЯ СПАСЕ ОТ ЗВЕРЯ ИЗБАВИ, ПРОСТЕР ТВОЮ РУКУ …
Мы встали на колени у киота. Я не знал, как молятся перед тюрьмой, и слушал, как мама читает «Отче наш». Отец, помолившись, тяжело поднялся и повернулся к нам. «Го-ос-споди! — будто задыхаясь, выдохнула мама, — а на шею-то!» Пальто отца было нараспашку, и из-под его бородки виднелся кусок шеи и открытой груди. Мама в поисках кашне или шарфа метнулась к шкафу, увидела, что он пуст, а его содержимое лежит кучами на полу и найти что-то подходящее невозможно. Борис Борисыч давил на полу окурок.
— Да ладно, – сказал отец, запахиваясь.
— Ну, конечно же! — возопила мама и бросилась к зеленому платку, — Господи, как я раньше…
Она схватила платок и, бросившись к отцу, откинула верх его пальто и по-женски накрыла плечи платком, завернув концы вокруг шеи. Потом, как ребенка, закутала в пальто, застегнула пуговицы и осмотрела. Мы с мамой уткнулись в отца.
Борис Борисыч встал около отца и указал Дубову на дверь. Тот открыл и стал в двери, натягивая на себя шапку. Отец сам оторвал нас от себя.
— А…А как же вы поедете? — раздался мамин голос.
— А вам нужно извозчика? — расставляя слова, произнес Борис Борисыч.
— Как все советские граждане: и на трамвае, и пешком, и на метро. И ваш супруг будет идти с чемоданом, будто… будто на вокзал. И не оглядываться, как какой-то воришка. А вы, жена арестованного, дайте ему с собой поужинать, потому что завтрак в камере он получит только утром.
Сколько раз об этом были разговоры! Отец Павел, понимавший, что расправа за верность православию и служение Церкви все равно не минует, говорил маме – мыло, сухари, зубной порошок должны с молитвенником быть всегда наготове! А мама, перекрестившись, отвечала – ну, даст Бог, нас минует! Сейчас она суетливо заворачивала в полотенце молитвенник отца Павла – тот самый его постоянный спутник, помощник и наставник, сухари, мыло, хлеб, недоеденный кусок сыра и туда же мама положила кусок пирога с грибами, испеченного сегодня к завтрашним именинам.
Мы и не заметили, что дверь во все время обыска была приоткрыта, что дом выстудило, и только сейчас, пропустив отца Павла с двумя конвоирами, Корольковы молча, печально взглянув на маму, плотно ее прикрыли.
Я не помню, чтобы в предыдущие аресты мать плакала. В этот же раз ей и даже мне, сопляку, стало понятно, что уже после этого отец едва ли вернется и что это так внезапно наступившее прощание накануне маминых именин было прощанием надолго. Мать и отец думали и были уверены, что навсегда, я же не представлял себе, что значит навсегда, но понимал, что отца потерял надолго. С кем буду говорить, читать, петь, кто будет вслух или шепотом обдумывать все, что со мной случается – от отметок в школе до драки в переулке или провожания и оберегания девчонок. Мать трясло от рыданий. Рыданий молчаливых. Ей не хватало воздуха, и она со скрипом и рыком втягивала в себя воздух и, втянув его, снова тряслась, трогая вещи, меня и бессмысленно искала какого-то приюта. Вдруг она остановилась и уставилась на меня своим опухшим лицом и вздувшимися глазами: «А куда? Куда они его?» Быстро и небрежно хватая вещи, она повторяла: «Только будь дома! Я скоро!»
Оделась, зачем-то прильнула к окну, стремительно через ворохи скарба на полу бросилась к киоту и уткнувшись в него теменем и прилепив ладони, торопливо молилась. Снова впустив в комнату морозный пар, сказала: «Господи, благослови! Будь дома!»
Вернувшись поздно, растрепанная и еще задыхающаяся, она рассказала, что, несмотря на документы, форму и тон этого следователя, она все-таки чувствовала в этом непонятный, необъяснимый душок бандитизма. Днем. Пешком. Слишком уж старательный следователь и полуграмотный помощник. Она побежала вслед, надеясь догнать и проследить, куда они направятся. По сугробам, за углами домиков, чтобы не быть замеченной ими, уже далеко, около трамвайной остановки, она все-таки догнала их — короткого и высокого, и отца Павла, который нес собранный ею узелок и чемодан с «вещдоками». Чекистам его было нести негоже. Она села в тот же трамвай, но в прицепленный вагон, доехала с ними до станции «Сокольники» только недавно открытого метро и в последнем вагоне, на каждой остановке выскакивала и снова вбегала в закрывающуюся дверь, следя, где эта тройка выйдет, и так доехала до станции «Дзержинская». Поднявшись на землю, они пошли к огромному зданию НКВД с задней его стороны и вошли в тяжелую дверь.
Уже давно стемнело, зажглись редкие уличные фонари. При выходе из метро под ногами сугробы, превращенные в сизый кисель. Из двери метро, которую почему-то держали открытой одну, а остальные были всегда заперты, шел теплый воздух, и толпящиеся пассажиры месили снежную кашу. Часы на сером печально легендарном доме показывали половину седьмого.
Сейчас в храме горит в руках множество праздничных свечей и читается такой долгожданный покаянный Канон:
-Помилуй мя, Бо-о-же, помилуй мя!..
Борис Борисыч торопился и все время понукал поспешать. Отец Павел не обращал внимания ни на дверь подъезда, ни на часовых, которые были на пути их хода по длинному коридору. Весь коридор он не тащился, спотыкаясь, с чемоданом и узелком, толкаемый в спину, а с Каноном в руках и в облачении стоял там, в толпе молящихся, и над ним и вокруг него пелось и повторялось:
Помилуй мя, Боже…
Следователь спешил. Горящие под потолком лампы распространяли вокруг себя серо-желтое пятно, и этот, казалось, бесконечный коридор был в равномерных серо-желтых светящихся пятнах, чередовавшихся с полутьмой. Поворот, и снова нескончаемый, тусклый пятнистый коридор. Свернув еще раз, они оказались, будто на перекрестке. Коридор шел дальше. В наружной стене была солидная дверь, но закрытая и даже опечатанная. Напротив двери была широкая мраморная лестница. Около неё — часовой и столик с телефоном. Борис Борисыч устремился к телефону и стал что-то быстро говорить в трубку.
… а Канон идет! Наверное, уже четвертая песнь:
«Избавителю мой и Ведче, пощади и избави и спаси мя, раба Твоего!»
Следователь бросил трубку и убежал по мраморным ступеням вверх. Рядом с широкой мраморной лестницей была еще одна. Она шла куда-то вниз. Около нее стояло двое часовых. Верхняя ступенька этой лестницы и пол вокруг нее были затоптаны и получалось, что часовые охраняют пятно. Дубов и отец Павел ждали.
Двое часовых вытянулись. Снизу, покряхтывая, появился невысокий командир в форменной фуражке и с пистолетом в кобуре на широком ремне. Он вышел из пятна, встал на мраморный пол и повернулся лицом к часовым. Снизу пришли еще двое солдат с винтовками. Дубов с интересом наблюдал, как маленький толстый командир в очень высокой фуражке сменил караул и с двумя отдежурившими ушел вниз.
…а уже кончается Песнь и идут последние стихи:
«Содержимь есмь бурею и треволнениями согрешений, но Сама меня, мати, ныне спаси!…».
Борис Борисыч, прыгая через ступеньки, несся, держа в руке маленькую бумажку. Он подбежал к пятну и, встав около часовых, подозвал отца Павла. Подталкиваемый костлявым кулаком Дубова, отец Павел со своим грузом передвинулся к часовым. Опять сверка лица и фото. Пропустили.
…а сейчас начинается песнь пятая:
« Человеколюбче, просвети, молюся и настави и мене на повеления Твоя!».
Отец Павел вместе со своими конвоирами начал спускаться вниз. Бетонные, выщербленные посередине и, особенно, на углах ступени, изогнувшись два раза, вели к тупику — железной стене, в которую была врезана железная дверь. В двери квадратное окошечко, изнутри закрытое заслонкой. Отец Павел с узлом и чемоданом, удержавшись на первых ступеньках, на косой ступеньке все же поскользнулся. Чемодан закувыркался и, ударившись о нижний пол, раскрылся. Отец Павел скользил, не находя перил и пересчитывая боками, локтями, коленями ступеньки. Беспомощно приземлился. Тут было плохо видно. В низком потолке у железной стены горела зарешеченная лампа, а над дверью была лампа с зеркальным отражателем, направленная на того, кто стоит перед окошком. Над рассыпанными книгами стоял Борис Борисыч и ждал, когда отец Павел соберет «вещдоки». Хрустевшие локти побаливали и, еще не вставая, отец Павел стал собирать все в чемодан. Подполз к отскочившим дальше псалтырю и кропилу. Кропило оказалось у ног Бориса Борисыча. Тому вдруг так забавно стало вспомнить детство и пофутболить катающимся кропилом. Но он не позволил себе много играть и подкатил эту трубочку с шариком к руке отца Павла. Борис Борисыч постучал в окошко. Щелчок и скрежет ответили. Видно, на той стороне были крючок и задвижка. Окно открылось. Лампа над ним светила, а то, что за окошком, было во мраке. Следователь передал во тьму окна бумажку, которой он еще наверху размахивал, и паспорт. Окно закрылось.
Под зарешеченной лампой стояли взмокший отец Павел, держащий разбитый чемодан с узлом уже в охапку; беспокойный, чем-то раздосадованный Борис Борисыч и пугливо озирающийся, уже сам ставший, как его губы фиолетовым, Дубов. Он беспокойно оглядывался, пугаясь могильного полумрака и угрожающей тишины. Только тут можно было обнаружить, что для Дубова все, что с ним происходит — в новинку. И обыск, и «протокол», и повелительная резкость следователя, и возможность оказаться не просто впервые в Москве, а прямо в самом НКВД, да еще сразу в подвале, откуда, как рассказывали, лучше всего видно Колыму. Он забыл, когда он вчера ел, но навсегда врезалось в его память, когда сегодня он чистил снег во дворе Бутырской тюрьмы, а комендант подозвал его и, указывая на Бориса Борисыча, сказал: «Тимофей Дубов, тебе как молодому коммунисту предоставляется возможность показать себя. Ты поступаешь в полное распоряжение товарища Бориса. По окончании операции явишься сюда».
Борис Борисыч, видя, что его подручный, молодой коммунист, растерян, а то и испуган, желая иметь в нем будущего работника своего будущего аппарата, не нарушая напряженности ожидания, подошел к нему, будто гуляя, и кривя рот, прошептал: «Должен был рапортовать. Опоздали. Сейчас сдам и приду утром. К десяти подойди сюда. Не забуду».
Грохотом взорвал тишину отодвигаемый внутри засов. Видно, он был тяжелый, потому что его отодвинули, толкнули дверь, она не поддалась, и тогда засов задвинули назад и с большей силой через какой-то кашлянувший порог, отодвинули до конца. Дверь не открылась. Раздался ворчливый мат и проскрипел другой засов. Дверь приоткрылась. Там, прямо вблизи был резкий наклон потолка вниз, и виднелась багрово желтая стена. На ней заляпанная, уходящая в глубину косая полоса – след многочисленных рук, опиравшихся на эту стену при спуске в следующий подвал. Отца Павла с его ношей толкнули за дверь. Конвоиры остались там. Дверь, устало поскрипывая, закрылась. За спиной отца Павла задвинули обе задвижки. Хриплый голос сзади еле понятно проговорил уже знакомое: «Не останавливаться! Не оглядываться! Вперед!»
А там уже поют:
«Спасе, помилуй и избави мя огня и прещения!».
Впереди был спуск.
Левой рукой надо было ползать по затертой многими руками полосе, а правой держать разбившийся чемодан-ящик. Господи, и не перекрестишься!
Снизу обдало резким тюремным духом.
-Ну, вперед же!
Тугая сила сзади наклоняла, будто запихивала в мешок голову отца Павла.
Яко первомученик Твой Стефан о убивающих его моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим, ненавидящих всех и обидящих нас прости…
Дух камеры. Он существует, он вечен и неистребим. Пока есть на свете зло, насилие, дух камеры — их вечный спутник. Ошибочно думать, что это просто запах – смесь пота, лекарств, параши, дегтярного мыла, портянок и махорки, это еще и одуряющий гул, когда не слышно чего-то одного, а сразу все – и шепот, и стоны, и вздохи, и вспышки глумливого смешка, и скрип досок на нарах, и систематически прошивающий все звуки такой привычный и все выражающий мат – клубки запахов, сросшиеся с паутиной звуков, обмазанные свечением одной лампы, еще закрытой плотной решеткой, чтобы кто не покусился на кусок стекла – все это становится тем не умирающим духом, который обладает силой дурманить всякого, кто осужден в него погрузиться.
Лабиринтами подвалов отца Павла процеживали, постепенно освобождая от лишнего – от разбитого чемодана, от нательного креста и кошелька с мелочью, от калош, которые были надеты на сапоги. Калоши считались лишней обувью, и их отобрали раньше, чем могли украсть соседи камерники. Теперь уже его со свободными руками, заложенными назад, сменяющиеся солдаты привели к угловой двери без номера. Поставили к стене лицом, открыли камеру и — «налево!», «вперед!» — втолкнули в одуряющее людское месиво.
Был поздний вечер, и камера пребывала в редких минутах отдыха. Обед прошел, парашу вынесли, вечерняя поверка совершена, новички, как и положено, прибыли еще утром. Если уводят на допросы, то по одному, и можно погрузиться в сон, беседы, раздумья или тайную одинокую трапезу, а то и игры.
Вечерний приход новичка был неожидан. Камера отозвалась на это. Отец Павел стоял у двери с еще заложенными назад руками под взглядами десятков пар глаз. Это длилось долго. Отец Павел знал, что надо ожидать распоряжения, куда сесть или встать. Самостоятельность новичка наказуема. Он положил узелок на пол, снял пальто и платок, свернув, положил в ноги и, сняв шапку, перекрестился. По миролюбию, волосам, небритости и крестному знамению все поняли, кого привели.
«Припозднился, батя», – послышалось с нар. Отец Павел произнес полагающееся: «Павел Ансимов, священник. Обыск был днем. Привезли на трамвае и метро. Здравствуйте!»
Ворчание и бормотания усилились. Надо было дать новичку место, и все сделали вид, что новичок их не интересует — отвернулись, болтали, притворялись спящими. Справа, с нижней полки послышалось: «Отец, проходите. Тут можете сесть». При тусклом свечении зарешеченной лампочки под потолком можно было разглядеть лысеющую голову и бледную руку. Сгребя двумя руками кучу под ногами, отец Павел сделал два шага и оказался около позвавшего. Около деревянной стойки, держащей полати, на нижних узких нарах полулежал невысокий арестант с ровно круглой головой лет сорока, улыбчивый, с небритым, будто женским лицом.
«Садитесь на пол. Пальто-то подстелите на бетонный пол и на шапку садитесь. Узелок между колен. Вы от стойки далеко, и слезающие не заденут». Когда новичок устраивался на цементном полу, камера гудела по-прежнему. «А вы сами понимаете, почему вас так неурочно и необычно?»
Гул притих. Камера прислушивалась. Отец Павел, понимая, что тут, в тюрьме, среди арестованных, дипломатия и утаивания неуместны, откровенно рассказал об утре сегодняшнего дня. В камерной полутьме из всех углов полетело:
— Раз днем, значит срочно – визгливый голос справа наверху – батя, чего-то прячешь. Видно тебя надо убрать срочно!
— Если так срочно, надо возить в машине.
-А машины заняты. Вот и послали двоих. Тебя сегодня и в расход!
Расхода не миновать, но сначала поспрошают. И как следует. До основанья, а затем!
— Не завидую, — хихикало сверху.
— Продержится!
Как воронье, летали пугающие откровенной простотой слова со всех концов камеры.
— Вот прямо сейчас, тепленького, возьмут на ласковую беседу.
— Ой, батя, держись! — неслось сверху.
— Николая угодника прихвати!
В ухо проник шёпот лысеющего: «Если вы выдержите эту волну, она скоро истощится. Тут все одинаково гадают о своем будущем. А вы мишень безответная».
Отец Павел и сам понимал, что угрозы, предсказания, оскорбления — это просто попытка найти настоящего преступника теми, кто невиновен или виновен примитивно, но кого ждет несправедливая и беспощадная кара. С озлобленностью заключенных он уже встречался и знал, что терпение и душевная молитва оградят. Так оно и стало. Выкрикивания, дьявольские напутствия и предсказания постепенно угасли, и, творя молитву, он выслушивал исповедь приютившего его арестанта. Он был певец, известный своими лирическими песнями и обвинялся в том, что был от рождения наделен и мужскими и женскими телесными чертами, что властями считалось не заболеванием, а преступлением. Он был не просто объектом обвинения, но предметом насмешек, жестоких издевательств, циничных прозвищ и даже рукоприкладства. Ночью, в камере этот стареющий больной исповедовался и просил молиться за него, потому что он арестован и будет сослан уже во второй раз. В первый раз он отсидел в лагере восемь лет и через месяц после возвращения его арестовали снова, и вот – снова ссылка. Ссылка за болезнь.
Оставшуюся часть ночи отец Павел, сидя на корточках на свернутом и положенном на цементный пол пальто, молился, ясно понимая, что угрозы и предсказания были не напрасно, и может статься, что сейчас идут его последние часы… Храм… День памяти Марии Египетской. На исповеди и на причастии будет много Марий. Жена тоже пойдет. Должна пойти в храм и исполнить все то, что должна делать именинница…придет домой…дочь, сын…как будут жить? Боже, защити их!
«Ансимов Павел! На выход! С вещами!» — раздалось из дверного окошечка поздним утром, когда заключенные, уже омыв руки и лица и позавтракав, ждали очередных вызовов. Был уже одиннадцатый час. Окна в камере не было, и все, как цветочные стебли, тянулись к вентиляционной решетке, из которой иногда потягивало холодком. Видно, на воле мороз крепчал. Камера снова рыночно загудела. Они были правы! Этого, с виду смирного, не на допрос, а сразу – с вещами. Ясно куда. Или тут, в подвальном коридоре, или в «следовательской». Само собой, с ним возиться не будут. С вещами и…
Отец Павел, просидевший скорчившись всю ночь, чтобы не мешать уже обжившимся сокамерникам, услышав свое имя, собирался аккуратно. По всему совершившемуся с ним он понял, что грядущее его перемещение может быть и последним. Завязал на себе зеленый платок…
В руце Твоего превеликого милосердия, Боже мой, вручаю душу свою…
…надел пальто, взял узелок.
…и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения…
… потянулся за шапкой, на которой сидел. Шапки не было. Окружающие смотрели, будто стыдя – ведут сам знает куда, а ему еще шапку!
«Ансимов Павел! На выход! Глухой?»
Запахнул пальто, пошел с кульком к двери, остановился, повернулся к десяткам лиц, выпроваживавших его, и, поклонившись, сказал:
«Простите меня, грешного!»
Выпрямился, потом снова, нагнувшись, вынул из узелка молитвенник, засунул его во внутренний карман, положил узелок на пол и, повернувшись со сложенными назад руками, перешагнул порог, как он был уверен, последний.
Пройдя весь вчерашний путь по лестнице, с которой катился, по коридорам с желто-серыми пятнами, отец Павел был приведен к мраморным ступеням, по которым вчера бегал Борис Борисыч. Вступив на знакомое пятно, он приблизился к часовым. Те долго передавали друг другу бумажки и паспорт, и потом один, взяв все, повел Отца Павла на второй этаж. Такой же коридор, но светлее. В начале коридора караул. Впереди, в дальнем конце у лестницы на следующий этаж тоже маячит охрана. На дверях номера. Снова «стоять!», «к стене!». Часовой постучал. Вошел.
О, святый Михаиле Архангеле, грозный Небесного Царя Воеводо! Прежде Страшного суда ослаби ми покаятися от грехов моих, от сети ловящих избавити душу мою…
Стоя лицом к стене, отец Павел видел слева и справа длинную дорожку коридора, завершающуюся картинными изваяниями фигур часовых. За дверью, у которой он стоял – тишина. Коридор тоже пустынен и тих. Звенело в ушах от неожиданного омертвения. Зашелестело слева. С противоположной от входа лестницы шел крупный лохматый чекист в кителе с квадратиком на петлице. Он подошел к двери. Постучал. Не дожидаясь ответа, открыл. Вошел. Видно так принято не ждать приглашения. Заранее все известно. Наверное, следователь. Сейчас вызовут.
О, грозный Воеводо Небесных Сил, помилуй мя, грешнаго, требующего твоего заступления, сохрани мя от всех видимых и невидимых враг…
Тишина. За дверью мертво. Упершись в буро-коричневую снизу и желтую сверху стену, отец Павел сквозь звон в ушах пытался найти какой-нибудь живой звук. Неожиданно чавкнуло. Это дверь отлипла от своего косяка и приоткрылась. Вышел, почему-то на цыпочках, часовой. Закрыл дверь. Документов отца Павла у него не было. Оставил там. Прошел мимо, одергивая гимнастерку. Не вызывают. Там, наверное, двое. Может быть, ждут еще одного? А может, будет Тройка? Та самая, что все может. «Постановила Тройка» — хоть пожизненное, хоть расстрел – не опротестовывается. Выполняется и приводится в исполнение немедленно. Не то что осознать и понять, опомниться не успел, а человека уже нет. Шелестит с другой стороны от входа. Чуть скосить глаза. Борис Борисыч. Он идет, сменив подворотничек на кителе. Прошел мимо отца Павла и остановился, будто завернул за угол. Встал. Глядя сквозь отца Павла, смотрит назад. За ним поспешает Дубов. Под длинным пиджаком белая косоворотка, губы красно-фиолетовые – сразу не отмоешь. Догнал Борис Борисыча. Тот сделал знак тише и указал на место с другой стороны двери. Дубов встал. Теперь Борис Борисыч постучал. Вошел.
Вот теперь-то вызовут.
Михаиле Архистратиже! Подкрепи от ужаса смертного. Не презри мене грешнаго, молящего тебе о помощи заступлением твоем…
Отец Павел уже понял, что ждали свидетеля обвинения – Борис Борисыча. Теперь «стоять.. фамилия…вы обвиняетесь…не сознаетесь…подпишите»…
А что за следователь? Видно не Лохматый. А Борис Борисыч докладывает. Наверное, уже доложил. Вот сейчас. Господи, благослови!
За дверью тишина. Дубов расхаживает, стараясь не шуметь, но у него не получается. Что-то скрипит и звякает — то ли сапоги, то ли ремень. Да и сам пыхтит, иногда трогая недотертые, будто опухшие губы.
Отец Павел собрал силы:
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится…
Кажется, шаги
Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой и уповаю на Него…
Дверь, отлипнув, чавкнула. Вышел Лохматый, встал в коридоре, ожидая. Следом за ним показалась форменная фуражка, а под ней виднелась маленькая, чуть сутулая женская фигура. В гимнастерке, юбке и начищенных сапогах. Фуражка была, как колокол, подавивший все, что под ним. За фуражкой шел Борис Борисыч:
– Значит, товарищ лейтенант, я могу считать, что этот обыск и арест приняты?
Фуражка:
– Ну вам уже сказали.
Борис Борисыч:
– Служу Советскому Союзу!
Фуражка (Лохматому):
– Вещдоки в фонд!
Борис Борисыч (стоя около отца Павла):
– Товарищ старший лейтенант, коммунист Дубов хорошо проявил себя в этом первом обыске и аресте. Можно рекомендовать его в школу НКВД?
Фуражка:
– Напишите рапорт.
Почти натолкнувшись на отца Павла
–Это еще что? ( к Лохматому) – Откуда это тут?
Отец Павел повернулся.
Борис Борисыч:
– К стене! (отец Павел повернулся опять)
– Товарищ лейтенант, Я хотел…как свид…как вещественное…
– Убрать отсюда! Вывести!
Лохматый:
– Документы…
– Отдайте и уберите! И немедленно!
Фуражка ушла, разгневанная. Лохматый ей что-то нашептывал, указывая на Борис Борисыча. Борис Борисыч рванулся в открытую дверь и вынес бумажки и паспорт. Дубову:
– Отдайте и уберите! – и бросился догонять Фуражку и Лохматого.
Шелест и шмыгание шагов растаяли. В безмолвной трубе стояли двое. Дубов уже чувствовал себя высшим чином. И первое, что он произнес, что давно мечтал произнести, терпя отношение к себе этих всяких начальников и караульных, произнести с удовольствием и со смаком, набравши полную глотку духа, было «Стоять!» Отец Павел стоял. Снова безмолвие. Дубов перебирал непривыкшими пальцами бумажки. Паспорт он понимал, но листки… Они разные и неразборчивые. И чем больше он путался, тем зычнее повторял – «Стоять!» Растерянные глаза передвигались от бумажек к стоящему перед ним, навязанному ему, этому уже надоевшему, попу.
– Помочь? – спокойно, чтобы не запугать, произнес отец Павел. По Дубову, как по продрогшей лошади, пробежала оторопь. Он поможет, соображал он, но как ему, врагу, дать документы? Он еще раз, для верности, произнес «Стоять!» И протянул издали бумаги так, чтобы можно было прочесть, но не касаться. Отец Павел читал: — «это ваш протокол, это пропуск вниз, это пропуск сюда, это…». «Стоять!» – произнес обрадованный Дубов. «Вперед!» И толкая бумажками, повел отца Павла к охраннику.
Коридоры, проверки, ступени, световые пятна – чувство, что он будто выныривает, задохнувшийся, из бесконечной удушающей трясины.
Вышли из задней двери этого саркофага. Мороз. Вьюжило. Дубов, плотнее натянувший свою шапку, видя, что у освобожденного ее нет, распахнул его пальто и, вытащив за середину зеленый платок, накрыл им его голову. Так эту странную фигуру подвел к дохнувшему в них вихрем теплого воздуха, метро.
– Деньги – то есть?
Не услышав ответа, Дубов засунул руки в карманы, оглянулся, повернулся спиной к отцу Павлу, вытащил монету, протянул назад и, впихнув её в замерзший кулак отца Павла, мгновенно исчез.
Кутаясь, дыша в ладони, ежась, вокруг зябкой трусцой семенили люди. Он все еще находился в состоянии осознания той постыдной истории, что с ним сыграли. Он, в третий и, казалось, окончательный арест простившийся с семьей и готовившийся к допросам, повторению «дознаний», этапированию, ссылке, каторжным работам, а то и просто к внезапной смерти, оказался игрушкой следователей – практикантов, которые позабавились и выбросили, как окурок.
Коченел, но не чувствовал мороза. Переминаясь с ноги на ногу, он медленно озирал все вокруг и, как прозревающий, вглядывался в окружающее и в себя. Он один. Ни охраны, ни ступенек, ни камеры. Он свободен. Страхи позади. Можно будет забыть допросы, толчки, унижения, тюремные лестницы и всяких карьеристов. Какой-нибудь час, и я дома, в семье, в покое, в тепле любви. Можно будет закрыть глаза, забыться, даже заснуть. Свободен. Домой. Вот он, пятак. А в этом пятаке весь рай семейного счастья! Зайти к Иверской, с благодарностью помолиться. Но ведь Иверская-то разгромлена, ее нет. Куда же ринуться с благодарностью за освобождение?
Я был тут десять лет назад, любовался красотами московского Китай-города и, заходя в храмы и часовни, приобщался к драгоценным святыням столицы. Пережив и уцелев после закрытия и уничтожения четырех храмов – в Ладожской, Введения на Введенской площади, Николы в Покровском и Воскресения Христова на Семеновском кладбище, сейчас, в 37 м году, будучи попран и выброшен врагами своими, как мусор, стою, думая, что я свободен, что страдания кончились!
Нет, я только песчинка, попавшая в этот смерч, катящийся по Православию, которому не видно конца, и он все сатанеет.
Господи, как же я со своими личными чувствами мал и ничтожен!
Москва. Будто ураган крушит Православие…
Подвигнешься на молитву и не увидишь драгоценнейшей Иверской часовни. Тут, в нескольких метрах отсюда был храм Троицы в Полях, и тут же была неповторимая часовня Сергия Радонежского, но это разрушено, и на их место перенесен памятник Ивану Федорову. А прямо на моем месте, рядом с метро, была церковь Владимирской Божьей Матери. Ее тоже нет. Направо был огромный собор «Иоанна Богослова у Китайской стены». Он закрыт, главки со шпилями и крестами сломаны, там – музей с уничтожающим названием –«реконструкции Москвы». Страшно оглядываться и видеть плеши или уродов на месте прежних храмов, неповторимых монументов Православия.
Боже мудрый, прости мне трусливые мысли.
Отец Павел вошел в вестибюль. Купил билет. Опять лестница вниз.
Какая свобода, какая личная радость могут быть сейчас, в это время повального, окровавленного разгула бесовства?
Только молитва, непрестанная, горячая может уберечь Веру православную от гибели под безжалостными подковами взбесившегося зверя.
Сокольники. Неважно, что мороз и неважно, что не на что ехать на трамвае. Пешком. Только удержать мысль.
Боже! Силы, силы духа прошу! Если я еще жив, уцелел и годен на что-то, значит, это не просто случайность. Значит это Указание Божье — живи, молись, сделай, что можешь, чтобы молитвой, всем собой помочь людям не упасть духом, поддержать, укрепить веру. Твои многие собратья по храмовому служению томятся в тюрьмах или уничтожены, а ты, Павел, разве ты не понял, зачем ты освобожден? Ну, конечно же! Это для них была игра, стажерство, практика жестокости, а для тебя, Павел, это было НАПОМИНАНИЕ, что если дана тебе жизнь и дан храм, и дана хоть крохотная возможность бороться за Веру, за Церковь Христову, тебе напоминают и подсказывают твой правильный путь и твое назначение.
От Сокольников через Яузу мимо Преображенки, не чувствуя мороза, кутаясь в воротник и платок, дыша паром разгоряченного бегуна.
Благодарю Тебя, Боже, что вразумил меня, грешного, неразумного, трусливого. Слава в вышних Богу! Хвалим Тя, благодарим Тя, славословим Тя! Ты послал мне испытания, и я, грешный трусливо готовился к сражению. Сражению за себя, за свою жизнь. Но вручив меня в руки палачей, а потом разрушив узы тюремные, Ты дал мне понять, что мне дается еще один миг, чтобы нести Слово Христово. Прости меня, что усомнился в силе пастыря, несущего Слово.
По Лаченкову переулку к дому, к двери, одеревянелой кистью подолбить в дверь, мимо потрясенной жены – к киоту, распахнуться, достать спасителя и друга – молитвенник.
Боже, милостивый, вразумляющий Боже! Благодарю Тебя. Знаю, что судьба моих осужденных собратьев не минует меня, но знаю, что «прочее время живота моего», каждый миг, что даешь Ты, Господи, я должен пребыть в служении Вере Христовой, чтобы надеяться на добрый ответ на судилище Твоем. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи мои уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя и творити волю Твою и пети Тя во исповедании сердечнем и воспевать всесвятое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Пальцы отходят, когда творишь крестное знамение.
С глазами, направленными на киот, расстегнулся, раскрутил мокрый от снега и пота платок и протянул жене: Жена подошла, беря у него, коленопреклоненного, платок, опустилась на колени. Он с самодельным молитвенником в руке, обнял жену, все еще глазами сросшись с Образом:
Господи, готово сердце мое!
Да будет воля Твоя.
